Яна титоренко
Пора возвращаться домой
О феномене русской эмиграции, поиске свободы и тоске по Родине
– Дин-дон, дин-дон, – перезвоном колокольчиков встречает утро церквушка, стоящая на вершине опушки.
– Ой, то не вечер, то не вечер, мне малым-мало спалось, – затягивает песню ямщик.
Мальчишки несутся наперегонки до озера. В их домах готовят компот, делают картофельные котлеты с черносливом и шепталой, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака. Когда лето закончится, они уедут в Москву или Петербург, и следующим летом непременно встретятся здесь снова. Так они, по крайней мере, себе клянутся.
Они ещё не знают, что следующего лета в их жизни не будет.
Ямщик поет.
– Дин-дон, дин-дон, – звонят колокола храма Александра Невского в Париже. На Тиргартен и Александерплац, на мосту Александра III русские снимают шляпы, чтобы не спрашивать, о ком звонит колокол. Он звонит о России.
Дин-дон, дин-дон.
– Ой, то не вечер, то не вечер, мне малым-мало спалось, – затягивает песню ямщик.
Мальчишки несутся наперегонки до озера. В их домах готовят компот, делают картофельные котлеты с черносливом и шепталой, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака. Когда лето закончится, они уедут в Москву или Петербург, и следующим летом непременно встретятся здесь снова. Так они, по крайней мере, себе клянутся.
Они ещё не знают, что следующего лета в их жизни не будет.
Ямщик поет.
– Дин-дон, дин-дон, – звонят колокола храма Александра Невского в Париже. На Тиргартен и Александерплац, на мосту Александра III русские снимают шляпы, чтобы не спрашивать, о ком звонит колокол. Он звонит о России.
Дин-дон, дин-дон.
Три волны русской эмиграции
Феномен русской эмиграции так или иначе связан с возникновением и существованием на карте мира советского государства. Причины эмиграции в большинстве своем были идеологическими.
Первая волна
С момента революции 1917 года и до завершения Гражданской войны.
Вторая волна
Период Великой Отечественной Войны и десятилетие после.
Третья волна
1970-ые и до распада Советского Союза.
~
Белая (по политическим взглядам эмигрантов) или сословная (по их происхождению), эта волна приходится на время после революции 1917 года и характеризуется вынужденным бегством приверженцев павшего политического режима из России. Лига Наций называет цифру в 1,4 миллиона беженцев. Несмотря на вывезенные из России материальные ценности, возможность публиковаться, говорить на родном языке и участвовать в политической деятельности, эмиграция первой волны для многих уехавших стала личной драмой, потому что была не осознанным выбором, а волею обстоятельств. Некоторые спаслись сами, другие были высланы на "Философских пароходах".
Если эмигранты второй волны редко занимались политической деятельностью и не писали о себе, боясь публичности, то белой эмиграции удалось сконструировать новую реальность культурной России за пределами страны: возник феномен, при котором вне государства на русском языке писалось и издавалось больше, чем внутри, и самые выдающиеся и значительные российские умы своего времени жили и творили в Европе.
Это эмиграция персон, за фамилией каждого из которых – древняя история рода, тесно переплетающаяся с историей российского государства, политические амбиции и чувство тоски и страха. Белая эмиграция дала миру Набокова и Бунина, Струве и Ильина, Устрялова и Казем-Бека, евразийцев, Гиппиус, Мережковского, Милюкова, Шульгина, дом Романовых, русские сезоны Дягилева, Лифаря, Карсавина, Трубецкого, Бердяева и бесконечное множество других.
Если эмигранты второй волны редко занимались политической деятельностью и не писали о себе, боясь публичности, то белой эмиграции удалось сконструировать новую реальность культурной России за пределами страны: возник феномен, при котором вне государства на русском языке писалось и издавалось больше, чем внутри, и самые выдающиеся и значительные российские умы своего времени жили и творили в Европе.
Это эмиграция персон, за фамилией каждого из которых – древняя история рода, тесно переплетающаяся с историей российского государства, политические амбиции и чувство тоски и страха. Белая эмиграция дала миру Набокова и Бунина, Струве и Ильина, Устрялова и Казем-Бека, евразийцев, Гиппиус, Мережковского, Милюкова, Шульгина, дом Романовых, русские сезоны Дягилева, Лифаря, Карсавина, Трубецкого, Бердяева и бесконечное множество других.
Александр Казем-Бек
Александр Львович Казем-Бек происходил из знатной семьи, генеалогия которой восходила к персидским шахам. В 1917 году, на момент революции, Казем-Беку было всего лишь 15 лет, но трагедию страны он воспринял как личную драму, о чём неоднократно высказывался позднее в своей публицистике. Со свойственным ему пафосом повествования он писал о революции:
"В ту памятную зиму мы ушли из запуганных семей, из закрывшихся школ, из распавшихся воинских частей и собрались на далёких окраинах в глухих степях. Кровь учащейся России смешалась тогда с кровью русского казачества, с кровью лучшей части русского офицерства. Потом мы рассеялись по земному шару, как пыль человеческая… "
В отличие от некоторых других эмигрантских объединений, главной целью которых было возвращение Отечества в его прежнем виде, сложившееся вокруг Казем-Бека общество превыше всего ставило интересы России. По-видимому, ни контакты с нацистами, ни советская агентура не смогли этого изменить. В романтизированном и упрощенном виде программа Казем-Бека звучит выдержкой из его статьи:
"В ту памятную зиму мы ушли из запуганных семей, из закрывшихся школ, из распавшихся воинских частей и собрались на далёких окраинах в глухих степях. Кровь учащейся России смешалась тогда с кровью русского казачества, с кровью лучшей части русского офицерства. Потом мы рассеялись по земному шару, как пыль человеческая… "
В отличие от некоторых других эмигрантских объединений, главной целью которых было возвращение Отечества в его прежнем виде, сложившееся вокруг Казем-Бека общество превыше всего ставило интересы России. По-видимому, ни контакты с нацистами, ни советская агентура не смогли этого изменить. В романтизированном и упрощенном виде программа Казем-Бека звучит выдержкой из его статьи:
«Мы русские патриоты, не сталинисты и не реакционеры, мы, просто желающие того, чтобы наша Родина была свободной и великой, мы знаем сегодня, где наше место».
А.Л. Казем-Бек
А.Л. Казем-Бек
В эмиграции Казем-Бек стал главой партии "Молодая России", чей лозунг "Царь и Советы" вызывал некоторое недовольство как у Царя (речь идет об эмигрировавшей части дома Романовых), так и у Советов. Современники вспоминали, что публичные доклады Казем-Бека собирали тысячи слушателей. Об их формате писали: «…десятка два младороссов выстраивались на эстраде шеренгой и при его появлении, подняв правую руку римским приветствием, скандировали: «Глава! Глава! Глава!».
Крах младоросской партии часто связывают с инцидентом 1937 года, когда противники движения выследили Казем-Бека во время встречи с генералом Игнатьевым, человеком просоветского толка. Эти обвинения пали на благодатную почву упреков в излишней лояльности к советскому правительству. Доверие к партии, и без того неустойчивое, было подорвано окончательно. Младоросская партия самораспустилась в 1939 году в Париже после запрета французского правительства, но отдельные блоки в других странах существовали дольше.
В 1956 году Глава, которого приветствовали вскинутой рукой, вернулся в Советский Союз. В 1957 в «Правде» вышла его статья с откровенным рассказом о долгом пути возвращения на Родину. Казем-Бек писал там: «Я рад, что вырвался из американского „рая", я счастлив, что народ и правительство мне верит, и я могу посвятить остаток дней своих служению своей стране, строящей светлое будущее для всего человечества».
Может быть, Александр Львович действительно был советским агентом. Может быть, эту протокольную вещь его написать заставили, как заставляли писать других «возвращенцев» – Шульгина или Устрялова, например. А может быть – и этот вариант в романтическом русле развития младороссов кажется куда более привлекательным – он всю жизнь стремился сердцем к России и нашел в себе силы принять ее любой.
За два года до смерти советское правительство разрешило Казем-Беку поехать во Францию, чтобы встретиться с детьми в Каннах. Во время этой поездки бывший Глава заехал к старому другу, владевшему особняком в Ницце. Встречая Казем-Бека, тот вывесил на крыше дома младоросский штандарт. Грифон из герба дома Романовых на трехцветном фоне императорского флага: черный, желтый, белый.
Крах младоросской партии часто связывают с инцидентом 1937 года, когда противники движения выследили Казем-Бека во время встречи с генералом Игнатьевым, человеком просоветского толка. Эти обвинения пали на благодатную почву упреков в излишней лояльности к советскому правительству. Доверие к партии, и без того неустойчивое, было подорвано окончательно. Младоросская партия самораспустилась в 1939 году в Париже после запрета французского правительства, но отдельные блоки в других странах существовали дольше.
В 1956 году Глава, которого приветствовали вскинутой рукой, вернулся в Советский Союз. В 1957 в «Правде» вышла его статья с откровенным рассказом о долгом пути возвращения на Родину. Казем-Бек писал там: «Я рад, что вырвался из американского „рая", я счастлив, что народ и правительство мне верит, и я могу посвятить остаток дней своих служению своей стране, строящей светлое будущее для всего человечества».
Может быть, Александр Львович действительно был советским агентом. Может быть, эту протокольную вещь его написать заставили, как заставляли писать других «возвращенцев» – Шульгина или Устрялова, например. А может быть – и этот вариант в романтическом русле развития младороссов кажется куда более привлекательным – он всю жизнь стремился сердцем к России и нашел в себе силы принять ее любой.
За два года до смерти советское правительство разрешило Казем-Беку поехать во Францию, чтобы встретиться с детьми в Каннах. Во время этой поездки бывший Глава заехал к старому другу, владевшему особняком в Ницце. Встречая Казем-Бека, тот вывесил на крыше дома младоросский штандарт. Грифон из герба дома Романовых на трехцветном фоне императорского флага: черный, желтый, белый.
Иван Ильин
«Все, что я уже написал и еще пишу, и еще напишу, — все посвящено возрождению России, ее обновлению и ее расцвету»
И. Ильин. Родина, русская философия, православная культура. – 1992.
И. Ильин. Родина, русская философия, православная культура. – 1992.
В воспоминаниях об Ильине Е. Герцык описывает его так: «По матери – немецкой крови, светлоглазый, рыжеватой масти, высокий и тонкий, Иван Ильин – тип германца. И как бывает порой с русскими немцами, у него была ревнивая любовь к русской стихии – неразделенная любовь». Философ «тихих созерцаний», идеолог белого движения и редактор журнала «Русский колокол», Иван Ильин был выслан из России на "Философском пароходе" в 1922 году. В отличие от Казем-Бека, он не был в ту пору мальчишкой, не стал и создателем политической партии, оставшись незримым "белым кардиналом" – белая окраска тут будет более уместной – всего эмигрантского движения.
Ильин писал: «русский народ утратил всё сразу в час соблазна и потемнения – и близость к Богу, и власть над страстями, и силу национального сопротивления, и органическое единомыслие с природой…». Под этим «часом потемнения» Ильин понимал русскую революцию. Философ был одним из идеологов особого пути России, указывающих на сакральное место ее в мире. Он неоднократно писал, что формат расширения государства в императорской России всегда был мирным, не захватническим: народы, входившие в состав государства, получали самостоятельность.
Другом Ивана Ильина, с которым его связывало теплое восхищение и многолетняя переписка, был Иван Шмелев, о нем подробнее можно прочитать в материале Ксении Шаповаловой.
Ильин писал: «русский народ утратил всё сразу в час соблазна и потемнения – и близость к Богу, и власть над страстями, и силу национального сопротивления, и органическое единомыслие с природой…». Под этим «часом потемнения» Ильин понимал русскую революцию. Философ был одним из идеологов особого пути России, указывающих на сакральное место ее в мире. Он неоднократно писал, что формат расширения государства в императорской России всегда был мирным, не захватническим: народы, входившие в состав государства, получали самостоятельность.
Другом Ивана Ильина, с которым его связывало теплое восхищение и многолетняя переписка, был Иван Шмелев, о нем подробнее можно прочитать в материале Ксении Шаповаловой.
Россия — не человеческая пыль и не хаос. Она есть прежде всего великий народ, не промотавший своих сил и не отчаявшийся в своем призвании. Этот народ изголодался по свободному порядку, по мирному труду, по собственности и по национальной культуре. Не хороните же его преждевременно!
Придет исторический час, он восстанет из мнимого гроба и потребует назад свои права!
И. Ильин «Что сулит миру расчленение России?»
Придет исторический час, он восстанет из мнимого гроба и потребует назад свои права!
И. Ильин «Что сулит миру расчленение России?»
Наша любовь всегда должна быть сильнее нашей ненависти. Нужно любить Россию и русский народ больше, чем ненавидеть революцию и большевиков.
Н. Бердяев
Н. Бердяев
Феномен эмиграции первой волны, при которой большая часть интеллектуальной и творческой элиты добровольно или вынужденно покинула Россию, до сих пор оказывает влияние на историю нашего государства. У людей, переехавших в Париж, Берлин или Нью-Йорк, родились дети, внуки и правнуки, и целые семьи с пристальным вниманием и беспокойной заботой следят за судьбой страны, от которой не могут оторваться. Попытки эмигрантов вернуться, их сопротивление гитлеровской Германии, их рухнувшие надежды – всё это возникало и развивалось только из любви к Родине. Показательным примером неразрывной связи эмигрантов с русской культурой может служить, например, стихотворение Набокова, хотя он и в прозе неоднократно возвращался к тоске по России.
К России
Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.
Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен выть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей.
Навсегда я готов затаиться
и без имени жить. Я готов,
чтоб с тобой и во снах не сходиться,
отказаться от всяческих снов;
обескровить себя, искалечить,
не касаться любимейших книг,
променять на любое наречье
все, что есть у меня,- мой язык.
В. Набоков
Париж, 1939
Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.
Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен выть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей.
Навсегда я готов затаиться
и без имени жить. Я готов,
чтоб с тобой и во снах не сходиться,
отказаться от всяческих снов;
обескровить себя, искалечить,
не касаться любимейших книг,
променять на любое наречье
все, что есть у меня,- мой язык.
В. Набоков
Париж, 1939
~
~
Свобода — это такая мысль, которая, хотя мы её и высказываем и отводим ей известное место, на самом деле не может быть нами отчётливо мыслима. Следовательно, учение о свободе мистично.
А. Шопенгауэр
А. Шопенгауэр
Вторая волна эмиграции приходится на период после Великой Отечественной войны, и в глобальном смысле мало похожа на эмиграцию в классическом виде. Первая (но не хронологически, а идейно) часть связана с понятием «советский коллаборационизм», когда по идеологической, политической или личной причине советские граждане (или подданные Российской Империи) сотрудничали с Третьим Рейхом. Вторая приходится на лагеря, в которых содержались советские военнопленные. Советский Союз относился к таким с некоторым сомнением: обвинение "изменник Родины", даже если подозрения были минимальными, приводило в ГУЛАГ.
"Многие тогда не верили, что Рузвельт и Черчилль согласятся на требование Сталина вернуть – конечно же, на расправу, – всех, живших в Советском Союзе до 1939 года. Вернуть, независимо от их воли. Однако общего согласия на такую акцию "ялтинская тройка" достигла. "Ялтинское соглашение" узаконило насильственную репатриацию всех советских граждан, находящихся в западных странах", – пишет Валентина Синкевич. Она же вспоминает и о самих фактах "выдачи" советских граждан: "Трагичными событиями можно назвать выдачу англичанами около 40 000 казаков с их семьями в австрийском лагере Лиенц и выдачу американцами около 3000 солдат РОА (власовцев) в баварском лагере Платтлинг. В обоих случаях людей обманули, уверив, что выдавать никого не будут, что все могут спокойно собираться в этих лагерях. И выдали всех до единого. Люди отчаянно сопротивлялись, кончали жизнь самоубийством: резали вены, сжигали себя в бараках, зная, что их ждет."
"Многие тогда не верили, что Рузвельт и Черчилль согласятся на требование Сталина вернуть – конечно же, на расправу, – всех, живших в Советском Союзе до 1939 года. Вернуть, независимо от их воли. Однако общего согласия на такую акцию "ялтинская тройка" достигла. "Ялтинское соглашение" узаконило насильственную репатриацию всех советских граждан, находящихся в западных странах", – пишет Валентина Синкевич. Она же вспоминает и о самих фактах "выдачи" советских граждан: "Трагичными событиями можно назвать выдачу англичанами около 40 000 казаков с их семьями в австрийском лагере Лиенц и выдачу американцами около 3000 солдат РОА (власовцев) в баварском лагере Платтлинг. В обоих случаях людей обманули, уверив, что выдавать никого не будут, что все могут спокойно собираться в этих лагерях. И выдали всех до единого. Люди отчаянно сопротивлялись, кончали жизнь самоубийством: резали вены, сжигали себя в бараках, зная, что их ждет."
Вторая волна русской эмиграции, так называемые перемещенные лица, или ди-пи, существенно отличаются от двух других эмиграций. Если первая, "Белая волна", вызванная Октябрьской революцией, уходила в свободные страны Западной Европы, а третья волна была исходом из страны коммунистической на свободный Запад, то вторая волна попала из диктатуры коммунистической в диктатуру нацистскую.
Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз и захват немцами больших территорий России, Украины и Белоруссии, поставил находящихся там людей в трагическое положение. Для евреев это был смертный приговор, приведенный в исполнение, а для других – насильственный вывоз на работы в Германию. По мере отступления немецкой армии к ним прибавились еще волны беженцев из оккупированных немцами областей. То было "бегство своих от своих", как правильно сказал прозаик Леонид Ржевский, эмигрант второй волны. Люди боялись репрессий за то, что они, хотя и не по своей воле, оказались в немецкой оккупации и многие продолжали работать на своих прежних местах, чтобы не умереть с голоду.
История дает нам множество примеров кровавых, захватнических войн, геноцида и зверств по отношению к невинным людям. Они совершались, в большинстве случаев, одной стороной. Но положение русских людей, попавших в лабиринты того времени, было беспрецедентным: смерть грозила им со всех сторон. Возможность свободного выбора была сведена до минимума и людьми руководило основное, присущее всем живым существам чувство: желание спастись, не погибнуть.
Будучи одним из немногих оставшихся представителей второй волны, я пишу эти строки в надежде, что историки, изучающие трагические события Второй мировой войны, учтут всю сложность создавшихся тогда условий и дадут свою объективную и бесстрастную оценку.
Сергей Голлербах
Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз и захват немцами больших территорий России, Украины и Белоруссии, поставил находящихся там людей в трагическое положение. Для евреев это был смертный приговор, приведенный в исполнение, а для других – насильственный вывоз на работы в Германию. По мере отступления немецкой армии к ним прибавились еще волны беженцев из оккупированных немцами областей. То было "бегство своих от своих", как правильно сказал прозаик Леонид Ржевский, эмигрант второй волны. Люди боялись репрессий за то, что они, хотя и не по своей воле, оказались в немецкой оккупации и многие продолжали работать на своих прежних местах, чтобы не умереть с голоду.
История дает нам множество примеров кровавых, захватнических войн, геноцида и зверств по отношению к невинным людям. Они совершались, в большинстве случаев, одной стороной. Но положение русских людей, попавших в лабиринты того времени, было беспрецедентным: смерть грозила им со всех сторон. Возможность свободного выбора была сведена до минимума и людьми руководило основное, присущее всем живым существам чувство: желание спастись, не погибнуть.
Будучи одним из немногих оставшихся представителей второй волны, я пишу эти строки в надежде, что историки, изучающие трагические события Второй мировой войны, учтут всю сложность создавшихся тогда условий и дадут свою объективную и бесстрастную оценку.
Сергей Голлербах
~
~
~
Все чувствующее страдает во мне и находится в темнице; но моя воля всегда приходит ко мне как освободительница и вестница радости. Воля освобождает: таково истинное учение о воле и свободе - ему учит вас Заратустра
Ф. Ницше
Ф. Ницше
Третья волна эмиграции началась в 1970-ых. Самая долговременная и самая многочисленная, она идеологически отличалась от остальных. Национальная (т.е. еврейская) и сословная (т.е. интеллигентская), она стала для многих уехавших из Советского Союза не дорогой в изгнание, а путем к свободе. Лаконичнее всего сверхзадача эмиграции третьей волны сформулирована Сергеем Довлатовым: "«…единственной целью моей эмиграции была свобода. А тот, кто любит свободу, рано или поздно будет достоин ее». Из Советского Союза эмигрировали Михаил Барышников, Иосиф Бродский, Эдуард Лимонов, Эрнст Неизвестный, Александр Генис, Петр Вайль, Дмитрий Бобышев. Эта волна закончилась с падением СССР, когда само представление о свободе девальвировалось, потому что исчезли ограничения, но многие из эмигрантов так и не смогли признать за новой Россией права претендовать за статус их Родины.
Рупором и ведущим изданием эмиграции третьей волны была газета Сергея Довлатова "Новый американец".
Рупором и ведущим изданием эмиграции третьей волны была газета Сергея Довлатова "Новый американец".
"Новый американец"
Сергей Довлатов эмигрировал в Соединенные Штаты Америки в 1978 году. Не сразу, но он стал там невероятно популярным. Сергея Довлатова даже публиковал знаменитый "Нью-Йоркер". По этому поводу, кстати, ему писал Курт Воннегут со свойственным американскому писателю юмором:
"Дорогой Сергей Довлатов,
Я вас тоже люблю, но вы разбили мое сердце. Я родился в этой стране, бесстрашно служил ей во время войны, и тем не менее мне ни разу не удалось продать свой рассказ журналу «Нью-Йоркер». И тут появляетесь вы — и раз! У вас тут же покупают рассказ. Что-то здесь очень нечисто, на мой взгляд".
"Дорогой Сергей Довлатов,
Я вас тоже люблю, но вы разбили мое сердце. Я родился в этой стране, бесстрашно служил ей во время войны, и тем не менее мне ни разу не удалось продать свой рассказ журналу «Нью-Йоркер». И тут появляетесь вы — и раз! У вас тут же покупают рассказ. Что-то здесь очень нечисто, на мой взгляд".

Письмо Курта Воннегута Сергею Довлатову
Первый номер «Нового американца» вышел 8 февраля 1980 года. Популярность газеты была огромной, она печаталась тиражом в 11 000 экземпляров. Довлатов писал: "Новый американец" был предметом всех моих надежд, пышно выражаясь – делом жизни".
Л. Федорова-Форд вспоминает: "Я работала заведующей редакцией и вспоминаю эпизод, когда к нам в редакцию (а это была небольшая комната на Union Square) пришли две девушки и предложили помыть полы у нас в офисе. Я ответила, что у нас нет на это бюджета, то есть платить им будет нечем, на что девушки – (обе красивые) – сказали: «Да мы бесплатно помоем, мы просто хотим на Довлатова посмотреть! Он на Омара Шарифа похож». Кстати, я это слышала не один раз и знаю, что Сережа не любил, когда ему говорили об этом. Ну, девушек, конечно, отправили, не дав прикоснуться ни к полам, ни к Довлатову".
Л. Федорова-Форд вспоминает: "Я работала заведующей редакцией и вспоминаю эпизод, когда к нам в редакцию (а это была небольшая комната на Union Square) пришли две девушки и предложили помыть полы у нас в офисе. Я ответила, что у нас нет на это бюджета, то есть платить им будет нечем, на что девушки – (обе красивые) – сказали: «Да мы бесплатно помоем, мы просто хотим на Довлатова посмотреть! Он на Омара Шарифа похож». Кстати, я это слышала не один раз и знаю, что Сережа не любил, когда ему говорили об этом. Ну, девушек, конечно, отправили, не дав прикоснуться ни к полам, ни к Довлатову".
Тоталитарный строй нам претил. Мы ощущали себя демократами.
И наконец сделали окончательный выбор. Подали документы на выезд.
Приехали. Осмотрелись.
И оказалось, что выбрать демократию — недостаточно. Как недостаточно выбрать хорошую творческую профессию.
Профессией надо овладеть. То есть—учиться. Осваивать навыки. Постигать законы мастерства.
Мы учимся демократии подобно тому, как учились ходить.
С. Довлатов, редакторская колонка в журнале "Новый американец"
И наконец сделали окончательный выбор. Подали документы на выезд.
Приехали. Осмотрелись.
И оказалось, что выбрать демократию — недостаточно. Как недостаточно выбрать хорошую творческую профессию.
Профессией надо овладеть. То есть—учиться. Осваивать навыки. Постигать законы мастерства.
Мы учимся демократии подобно тому, как учились ходить.
С. Довлатов, редакторская колонка в журнале "Новый американец"
Бродский / Барышников
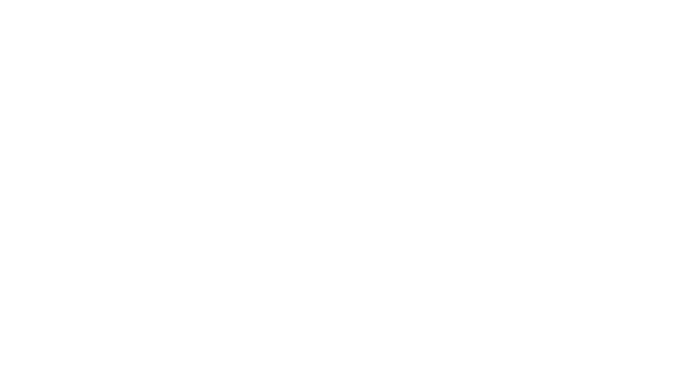
Бродский и Барышников
Иосиф (ещё в Ленинграде друзья называли его на западный манер – Джозеф) Бродский был поэтом, Михаил Барышников – танцором балета.
Первый эмигрировал в 1972 – вынужденно, по четкому требованию органов, второй – в 1974, уехав на гастроли и став невозвращенцем. Причина их эмиграции была разной: Барышников вполне вписывался в контекст эмиграции третьей волны, он искал свободы, Бродский эмигрировал скорее от отчаяния и невозможности публиковаться открыто. Когда его приглашали в Великобританию на поэтический вечер, советское посольство ответило: "Такого поэта в Советском Союзе нет".
Бродский и Барышников стали друзьями, вместе открыли в Нью-Йорке ресторан "Русский самовар". Барышников – адресат нескольких стихотворений Бродского, его артистический и танцевальный талант проявился с новой силой в постановках на стихи русских поэтов, образ русского эмигранта используется им до сих пор.
Первый эмигрировал в 1972 – вынужденно, по четкому требованию органов, второй – в 1974, уехав на гастроли и став невозвращенцем. Причина их эмиграции была разной: Барышников вполне вписывался в контекст эмиграции третьей волны, он искал свободы, Бродский эмигрировал скорее от отчаяния и невозможности публиковаться открыто. Когда его приглашали в Великобританию на поэтический вечер, советское посольство ответило: "Такого поэта в Советском Союзе нет".
Бродский и Барышников стали друзьями, вместе открыли в Нью-Йорке ресторан "Русский самовар". Барышников – адресат нескольких стихотворений Бродского, его артистический и танцевальный талант проявился с новой силой в постановках на стихи русских поэтов, образ русского эмигранта используется им до сих пор.
Как славно ввечеру, вдали Всея Руси,
Барышникова зреть. Талант его не стерся!
Усилие ноги и судорога торса
с вращением вкруг собственной оси
рождают тот полет, которого душа
как в девках заждалась, готовая озлиться!
А что насчет того, где выйдет приземлиться,
земля везде тверда; рекомендую США.
Бродский – Барышникову
Барышникова зреть. Талант его не стерся!
Усилие ноги и судорога торса
с вращением вкруг собственной оси
рождают тот полет, которого душа
как в девках заждалась, готовая озлиться!
А что насчет того, где выйдет приземлиться,
земля везде тверда; рекомендую США.
Бродский – Барышникову
Барышников говорит: "У меня никогда не было такой привязанности к этому месту, как у него [Бродского]. Я и прожил-то в России всего 10 лет. Я продукт латвийского воспитания, хотя родители у меня были русские со всеми вытекающими из этого последствиями. Но я никогда не чувствовал ностальгии — точнее, у меня есть ностальгия по русским людям и русской культуре, но не по этому месту на географической карте".
В наши дни Барышников гастролирует со спектаклем "Бродский/Барышников", в котором читает стихи умершего друга. Гастроли проходят в Тбилиси, Риге, Таллинне и Вильнюсе. Существование на карте мира России Барышниковым старательно игнорируется.
В наши дни Барышников гастролирует со спектаклем "Бродский/Барышников", в котором читает стихи умершего друга. Гастроли проходят в Тбилиси, Риге, Таллинне и Вильнюсе. Существование на карте мира России Барышниковым старательно игнорируется.
В своей статье «Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета» Генис и Вайль подвели итог эмиграции и свободы, ради которой эмигрировали: «И наконец мы пришли к тому горькому выводу, к которому рано или поздно приходят мудрецы, аскеты и пьяницы — человек один, и только он отвечает за себя. Ни пятилетки, ни диссиденты, ни американская демократия не могут ни помочь, ни помешать человеку быть самим собой — это всегда происходит внутри, а не снаружи».
– Дин-дон, дин-дон, – перезвоном колокольчиков встречает утро церквушка, стоящая на вершине опушки. Каждому, кто хоть раз уезжал за пределы России и чувствовал себя в другой культурной и языковой среде, знакомо чувство странного, будто бы напрасного облегчения от возвращения домой. И дождь кажется родным, и продукты в магазине покупать приятнее... Прошло сто лет со времен начала эмиграции первой волны, Россия стала совсем другой страной, но люди всё равно уезжают – в поисках лучшей жизни или ради свободы. Эта эмиграция похожа на обычный переезд из одного города в другой, она не идет ни в какое сравнение с агонией государства, из которого ты бежишь, потому что страшно, и каждый новый день надеешься на возвращение, ждешь звонка из Петрограда, который уже даже называется иначе, пролистываешь газеты, соглашаешься верить хоть самому Гитлеру, лишь бы ещё хоть раз бежать наперегонки до озера под грустные песни ямщика и слышать монументальное, мелодичное: "Дин-дон, дин-дон". "Отвяжись, я тебя умоляю", – Набоков просыпается ночью в холодном поту. Бродский стоит на финском берегу и смотрит в сторону Ленинграда. Александр Казем-Бек всходит на сцену под крики "Глава!": "Мы, русские люди, мы знаем теперь, где наше место".
Нет, они не знали. Они только пытались его найти, и в этих поисках возвращались домой, чтобы десятки лет сидеть в лагерях, или отрицали существование России, чтобы не было так мучительно больно, когда кончик языка толкается о нёбо, а через сомкнутые зубы мягкостью детских воспоминаний звучит нота "си", и на "я" ты выдыхаешь весь воздух – ничего больше не остается – "Рос-си-я".
Безусловно, феномен Набокова, к которому всегда отсылают подобные стилистические аллюзии, не мог бы, наверное, сформироваться, останься он в Российской Империи или – останься та империя. Может быть, не получил бы свою Нобелевскую премию и Бродский – в Советском Союзе ему бы не разрешили ее получить. Довлатов никогда бы не стал всемирно известным писателем, и ему точно не завидовал бы Курт Воннегут. Не издавался бы и "Новый американец", и о свободе мы бы знали чуть меньше, чем сейчас. В конечном счете, эмиграция – это всегда побег, даже если готовишься к ней долго и сознательно, а ещё – несчастная влюбленность, потому что можно выкинуть Россию из памяти, не писать на русском, не танцевать, как русский, не слышать колокольного звона, но выкинуть из сердца – нельзя.
Нет, они не знали. Они только пытались его найти, и в этих поисках возвращались домой, чтобы десятки лет сидеть в лагерях, или отрицали существование России, чтобы не было так мучительно больно, когда кончик языка толкается о нёбо, а через сомкнутые зубы мягкостью детских воспоминаний звучит нота "си", и на "я" ты выдыхаешь весь воздух – ничего больше не остается – "Рос-си-я".
Безусловно, феномен Набокова, к которому всегда отсылают подобные стилистические аллюзии, не мог бы, наверное, сформироваться, останься он в Российской Империи или – останься та империя. Может быть, не получил бы свою Нобелевскую премию и Бродский – в Советском Союзе ему бы не разрешили ее получить. Довлатов никогда бы не стал всемирно известным писателем, и ему точно не завидовал бы Курт Воннегут. Не издавался бы и "Новый американец", и о свободе мы бы знали чуть меньше, чем сейчас. В конечном счете, эмиграция – это всегда побег, даже если готовишься к ней долго и сознательно, а ещё – несчастная влюбленность, потому что можно выкинуть Россию из памяти, не писать на русском, не танцевать, как русский, не слышать колокольного звона, но выкинуть из сердца – нельзя.