Полина Григорьева
Orgasm is closed
Наш специальный корреспондент в Париже побывал на показе нашумевшего "Дау", из-за которого Антон Долин поссорился со всем миром, а Харьков, по слухам, готов убить режиссера Илью Хржановского
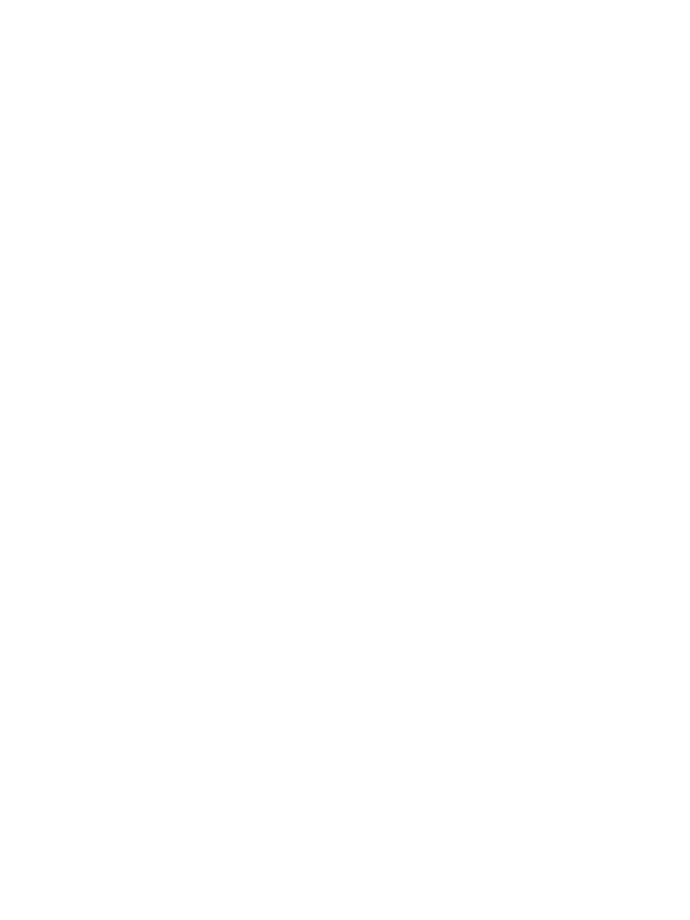
Виза и пакет документов для входа
В конце января я случайно обнаружила, что оказываюсь в Париже в даты, совпадающие с показом "Дау". Любопытство заглянуть туда перевешивало всеобщее возмущение по поводу процесса съемок: СМИ рассказывали про многочисленные случаи психологического и физического насилия, от обвинений в котором режиссер Илья Хржановский постоянно отмахивался. Победил капитализм — билет для зрителей до 26 лет стоил в полтора раза дешевле обычного. Хотелось бы сказать, конечно, что, если бы не скидка, я бы не пошла, но кого мы обманываем: россияне едут на показы в Париж и Лондон практически автобусами, а лучшие кинокритики готовы до хрипоты в горле доказывать несостоятельность или гениальность проекта (прим.ред. – среди наиболее активных защитников "Дау", например, Антон Долин), а подобный резонанс редко оставляет равнодушным.
"Дау" — масштабный кинематографический и социальный эксперимент, который вырос из желания Хржановского снять биографию Льва Ландау, возникшего у режиссера после прочтения биографии его жены. Биография знаменитого физика в пересказе Коры — вещь сама по себе прелюбопытнейшая, рассказывающая о страданиях женщины, чей муж решил вывести формулу любви и на ее глазах превратился, выражаясь современным языком, в пансексуала. Выражаясь языком простых советских людей — блядовал. Блядство (именно в такой форме слова, отдающей мерзостью) — пожалуй, единственное, что перекочевало из литературного источника на экран. Ради остального режиссер построил под Харьковом огромный Институт, который населил персоналом, набранным из местных жителей (например, главного кгбшника играет реальный харьковский тюремщик) и из творческой элиты, собранной по всему миру — среди героев известные театральные режиссеры, настоящие ученые, украинские поп-звезды и политики, художники, эпатажный дирижер Курентзис в главной роли. Проститутки в ролях любовниц и Марцинкевич с друзьями в ролях местных хулиганов — как вишенка на торте. Все эти люди не играли, но жили в этом университете, строгого сценария не было, зачастую, по словам Хржановского, он устраивал сюжетные повороты, подсовывая героям, которых снимали, новых действующих лиц в кадр. Кино превратилось в муравейник в аквариуме; наблюдавший за ним Хржановский в одном из интервью радостно объявил, что он самоустранился от роли демиурга. Что теперь его место займет каждый из зрителей. Зрителем можно было стать в Париже в огромной инсталляции, занявшей два ремонтирующихся театра друг напротив друга и последний этаж центра Помпиду.
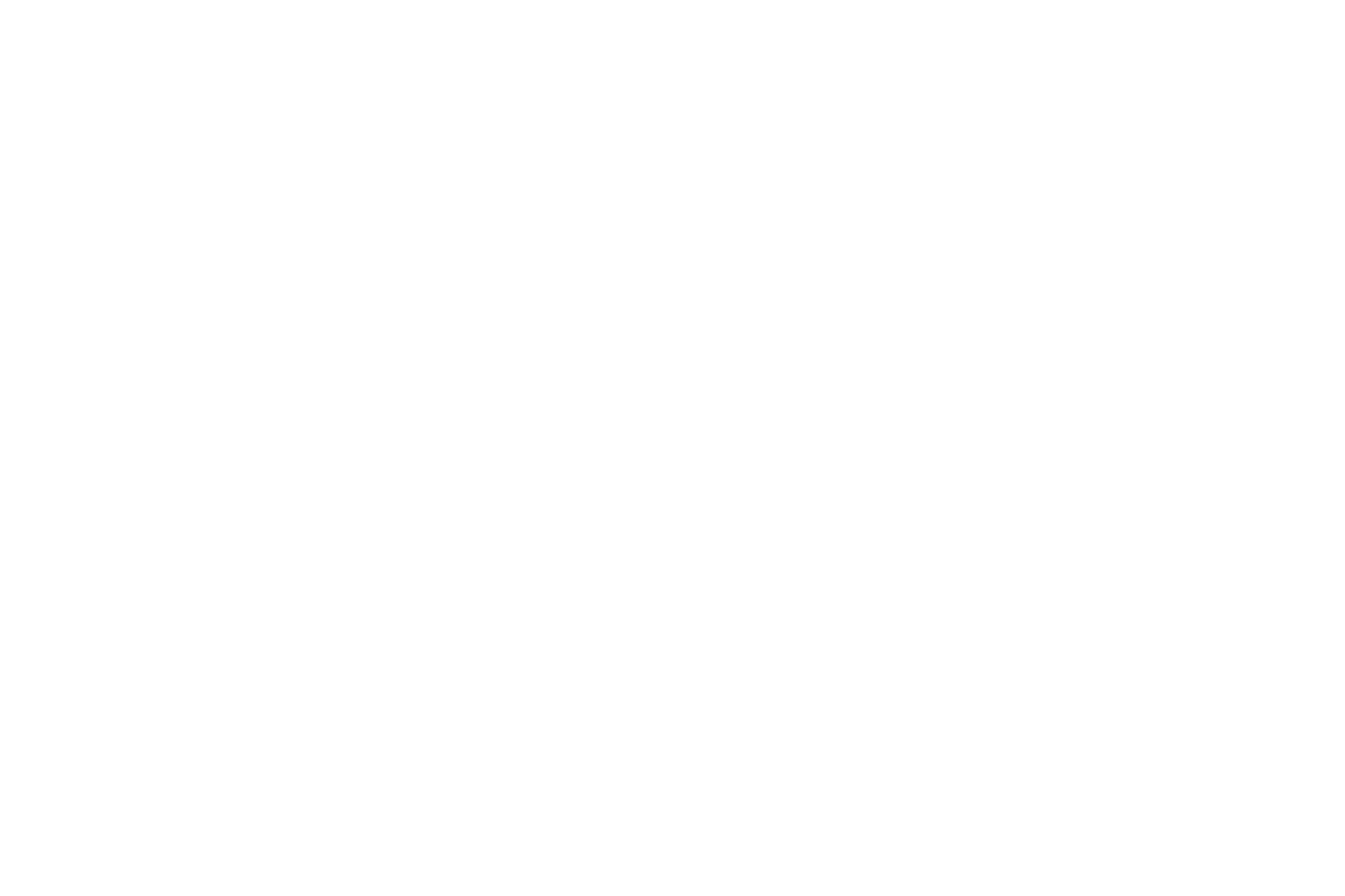
Кадр со съемок фильма "Дау". В центре – исполнитель главной роли дирижер Теодор Курентзис
Мужу я безапелляционно заявила, что мы на шесть часов выпадем из реальности. Чтобы заранее почувствовать себя демиургом, я решила поставить небольшой эксперимент: в отличие от меня, читавшей каждую статью про "Дау", мой муж не знал про фильм ничего, кроме того, что это некий кинематографический монстр, выросший из попыток заснять жизнь Ландау. Этого оказалось достаточно, чтобы заинтриговать — "физикам всегда интересно смотреть про физиков", радостно покивал супруг. Мне стало жалко его неподготовленную психику, и я, опасаясь попасть на один из самых скандальных фильмов про двух дворников, чья попойка переросла в яростный коитус, предупредила мужа, что съемки иногда заходили слишком далеко. "Ну ничего, посмотрим, куда зайдем мы", ответил мне он.
Заходить в театр, скрытый под строительными лесами, из весеннего, солнечного и теплого Парижа совсем не хотелось. Нас, замешкавшихся в дверях, поторопила компания украинцев с дрелями — было это частью происходящего вокруг, или это были обычные рабочие, мы так и не поняли. Сдав телефоны и попав в организационный хаос, сквозь толпу французов, гипнотически толкающихся у стилизованного под советскую столовку бара, мы протолкнулись в какой-то зал и попали на концерт современной музыки. Из амфитеатра было видно огромное зеркало, отражавшее оркестровую яму, в которой между каркасов кроватей, привычных русскому человеку по пионерлагерям и дачам, играл саксофонист — точнее будет, издавал звуки. Ничего общего с Джоном Кейджем это не имело — хаотические взвизги нервных пассажей, которые вкупе с ремонтными лесами повсюду нагнетали истерику и давящее ощущение. Рядом с нами, укрывшись курткой, на рюкзаке спал какой-то русский: что за сны ему снились, представлять не хотелось.
Когда ты входишь на эту территорию, попадаешь на совершенно иную площадку восприятия. Это — не обычный язык кинематографии. Не клише, к которому мы привыкли. С которым мы согласились и продолжаем внутри него наше собственное общение. Там есть дикость нашей собственной жизни. Есть обнаженность коммуникации.
Теодор Курентзис о съемках в фильме "Дау"
Теодор Курентзис о съемках в фильме "Дау"
Мы посидели минут пять и отправились дальше, вниз, к кинозалу, у которого скопилась очередь. Периодически из зала выходили люди: тогда очередь потихоньку продвигалась, и можно было зайти внутрь. Ждать было неуютно — из-за зеркальной стены прямо в спину смотрел восковой Курентзис, то и дело заставлявший французов оборачиваться за плечо. Девушка на входе в кинотеатр наконец сжалилась и пропустила нас внутрь, сесть на пол. Мы попали на фильм про Колядина, главу лаборатории, который экспериментирует с аяуаской под мерный шепот шамана. Его рассказ про теорию множественных вселенных путается с рассказом приехавшего в институт раввина о связи божественного и научного, с исследованиями младенцев в клетках, которых хотят сделать предшественниками новой расы, с суетным петтингом с буфетчицой, с беседами с женой, которая по одной отрывает лапки комару и пытается поговорить с ним, как с личностью. Кадры плывут, множатся и дробятся — динамика подсказывает, что сейчас наступит некий катарсис, но фильм заканчивается тем, что Колядин пересказывает кгбшнику суть апофатического богословия. Кгбшник играет очень плохо — от того, как показно он крутит ручку на камеру, заинтересованно кивает, чтобы потом тут же уставиться куда-то в сторону и выдать свою усталость, становилось тошно, и куда больший интерес представляла сидевшая рядом со мной девушка-француженка, подсвечивавшая себе дауфоном (переводчиком на английский, немецкий и французский), и тщательно коспектировавшая каждое слово главного героя. Еще одна девушка записывала все на диктофон, который спрятала потом в книжку со склеенными страницами.
Со включенным светом публика со вздохом неудовлетворения потянулась к выходу: на следующий фильм в зал уже собралась новая очередь. В отражениях восковых Курентзисов я с удивлением поняла, что один из них — настоящий. Рядом с ним стоял отшельнического вида дедушка, в котором я узнала Анатолия Васильева, известного театрального дирижера. В памяти всплыло что-то о том, что в последний день будут показывать смонтированный (в отличие от остальных) фильм, в котором Курентзис-Ландау и Васильев-Капица дискутируют о смысле творения, но когда я сообразила это и кинулась обратно к двери, было поздно. Зал был полон, а девушка на входе в ответ на мои слова, что вот буквально полтора часа назад она разрешила мне сидеть на полу, сочувственно показала на знаменитостей: "Ну сами понимаете, на полу в присутствии этих мэтров..."
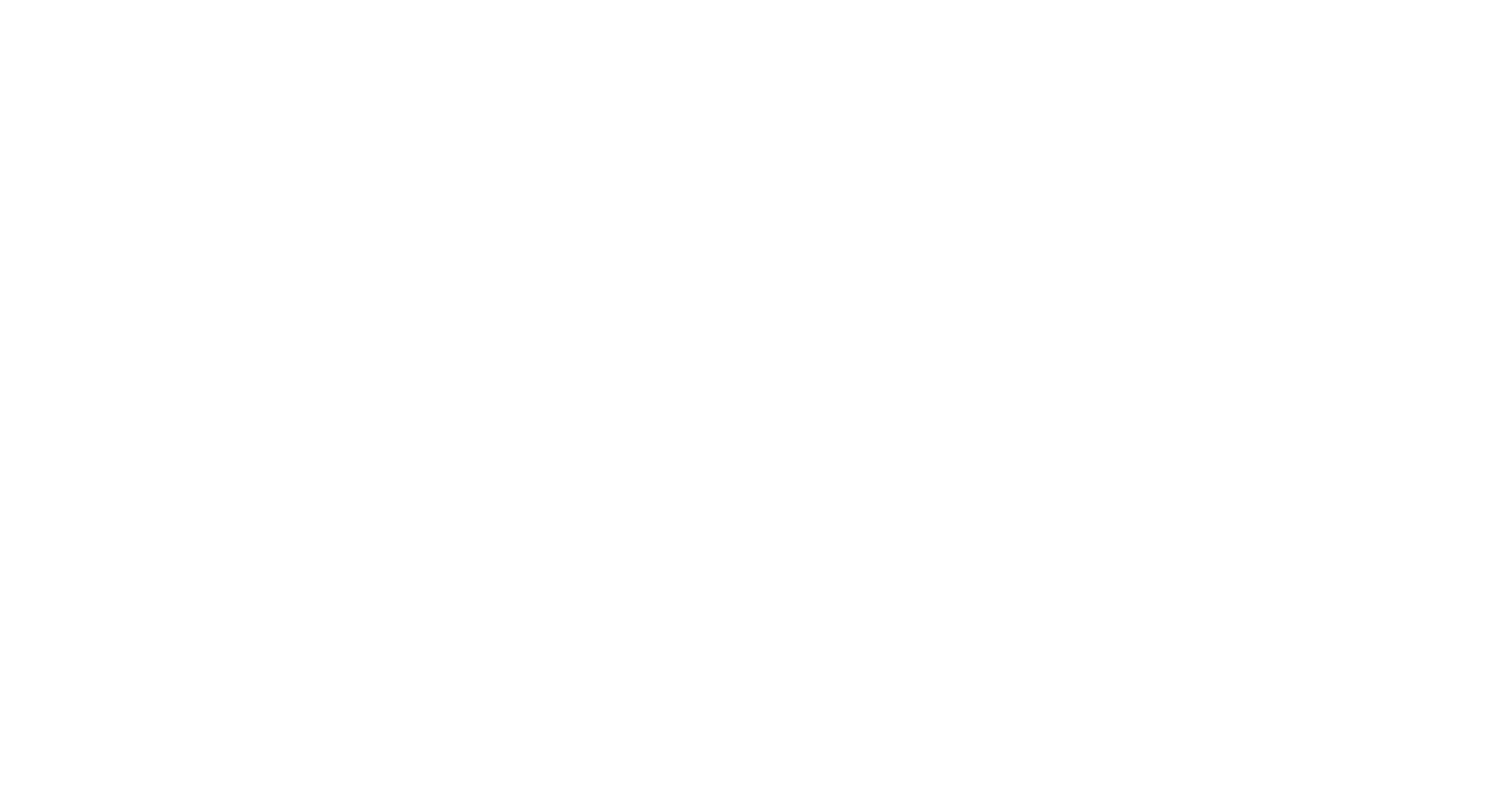
Кадр со съемок фильма "Дау"
И действительно. В театре де ля Виль ничего интересного не намечалось, так что через дорогу мы перешли в Шатле. Лабиринтов из строительных лесов в нем было побольше, коридоры поуже, бар, оформленный под секс-шоп, производил еще более гнетущее впечатление. В прогулках по бесконечным коридорам, размеченным каждый своим названием — "похоть", "коммунизм", "семья", "пропаганда" — десять раз поблагодаришь мэрию Парижа, которая запретила строить между театрами тоннель (готова поспорить, он назывался бы "коитус" или вроде того), и дала возможность глотнуть свежего воздуха.
В Шатле после коридора "страх", где бесконечно проигрывались крики насилуемых, судя по всему, женщин, а свет излучала только лампочка на столе, будто украденном из Большого дома, мы попали в "сабмиссивность" на еще один фильм. Он начинался с попойки и драки двух главных героев, так что я напряглась, что вот сейчас мы и увидим сношение дворников, но пьянка вылилась в историю физика, который, с одной стороны, чувствует себя чужим среди своих — Колядин и Ландау постоянно заводятся к изучаемой им теории струн, что она бесполезна, потому что ее никто никогда не докажет, ни опровергнет — с другой, не мог наладить отношения с женщинами. С каждой минутой их становилось все больше, и ты вместе с героем путался в их количестве, отношениях друг с другом, в их роли в институте. Периодические слезы и истерики жены и любовниц, которых, по утверждению героя, он любил одинаково, прерываются вставками из жизни физиков. Эти вставки начинают мешать и раздражать: разочарованные французы приходят и уходят, и только мы и еще одна парочка русских впереди нас сочувственно ждут, чем же закончится история невольного проверяющего формулу любви Ландау. От скуки начинаешь искать связь между женщинами и псевдообсуждениями науки: но от второстепенных физиков, тоскливо жующих салат и разглядывающих потолок с явным выражением "когда все это закончится и мне можно будет идти домой" на лице, хочется выть и бить Хржановского дауфоном по голове. Между тем физик остается наедине с приехавшим репортером, но девушка-интервьюер, вместо вопросов про науку, начинает задавать вопросы про женщин. Фильм заканчивается как и предыдущий — просто обрывается на паузе задумавшегося героя.
В Шатле после коридора "страх", где бесконечно проигрывались крики насилуемых, судя по всему, женщин, а свет излучала только лампочка на столе, будто украденном из Большого дома, мы попали в "сабмиссивность" на еще один фильм. Он начинался с попойки и драки двух главных героев, так что я напряглась, что вот сейчас мы и увидим сношение дворников, но пьянка вылилась в историю физика, который, с одной стороны, чувствует себя чужим среди своих — Колядин и Ландау постоянно заводятся к изучаемой им теории струн, что она бесполезна, потому что ее никто никогда не докажет, ни опровергнет — с другой, не мог наладить отношения с женщинами. С каждой минутой их становилось все больше, и ты вместе с героем путался в их количестве, отношениях друг с другом, в их роли в институте. Периодические слезы и истерики жены и любовниц, которых, по утверждению героя, он любил одинаково, прерываются вставками из жизни физиков. Эти вставки начинают мешать и раздражать: разочарованные французы приходят и уходят, и только мы и еще одна парочка русских впереди нас сочувственно ждут, чем же закончится история невольного проверяющего формулу любви Ландау. От скуки начинаешь искать связь между женщинами и псевдообсуждениями науки: но от второстепенных физиков, тоскливо жующих салат и разглядывающих потолок с явным выражением "когда все это закончится и мне можно будет идти домой" на лице, хочется выть и бить Хржановского дауфоном по голове. Между тем физик остается наедине с приехавшим репортером, но девушка-интервьюер, вместо вопросов про науку, начинает задавать вопросы про женщин. Фильм заканчивается как и предыдущий — просто обрывается на паузе задумавшегося героя.
Мы выходим из "сабмиссивности" в "оргию", в бар, где столы вырезаны в виде пенисов, а в походные кружки наливают столичную водку и советское пиво — но из-за прилавка кокетливо выглядывают содранные этикетки "Балтики". Из бара можно выйти на террасу: в лицо бьет теплый весенний воздух Парижа, с площади доносятся звонки велосипедов, людской смех, гудки машин. За этим наблюдать интереснее и приятнее, чем за обитателями института. За спиной с жестяной кружкой появляется актер, игравший Колядина — он стоит потерянно и растерянно, как и мы в самом начале, когда попали внутрь. Муж шутит: "это часть иммерсивности?" и пытается утешить мое разочарование, пересказывая мне фильмы Звягинцева, Ханта и Серебренникова — он, в отличие от меня, чернуху перенести способен, и поэтому в монстре Хржановского чувствует себя более уверенно, видимо, различая в кадрах что-то знакомое.
Многие фильмы проекта «Дау» производят сильнейшее эстетическое впечатление, поднимая на новом материале вечные проблемы: пределы свободы, страх смерти, жажда любви, одиночество, солидарность.
«Дау» задает важнейший вопрос о границах между документальным и игровым кинематографом — и дает свою версию ответа. Проект исследует сложные взаимоотношения постсоветского человека (в том числе ученого и художника) с тоталитарным наследием СССР, зависимостью от него.
Антон Долин
«Дау» задает важнейший вопрос о границах между документальным и игровым кинематографом — и дает свою версию ответа. Проект исследует сложные взаимоотношения постсоветского человека (в том числе ученого и художника) с тоталитарным наследием СССР, зависимостью от него.
Антон Долин
Наше бурное русское обсуждение привлекает внимание, и к нам подходит девушка-француженка, предлагающая пройти на концерт. На концерт мы идем через кухню, на которой готовят гречку с сосисками, которую потом будут продавать за 10 евро, спускаемся по каким-то бесконечным лестницам и попадаем в маленькую комнатку с сохранившейся исторической отделкой. Саксофонист играет Баха, и он вместе с живым Парижем кажется таким счастьем и светом после всего просмотренного — но впереди еще три часа. Мы возвращаемся в де ля Виль: мэтров уже нет, зато на входе раздраженно и нервно курит Леонид Парфенов, а в столовке в углу угрюмо что-то выпивает Хржановский. Мимо проходит девушка, один в один похожая на Нику Белоцерковскую — меня уже не удивляет ничего. Мы идем обратно к восковому Курентзису и его отражениям, в кабинки — смотреть несмонтированные отрывки из "Дау". В попытке наткнуться наконец на что-то шокирующее и скандальное я выбираю из мозаики кадр, полностью заполненный обнаженной натурой. Это Дау, его жена Нора и Катя — жена того самого физика, пытающегося разобраться в себе. Они пытаются разобраться, хотят ли они спать втроем или нет, любит Дау Катю или Нору, что он чтит больше: чувство эмоциональное или привязанное. К ним вбегает, полностью голый, еще один физик, и обсуждение включает еще и его и оттого становится окончательно бессмысленным. Я тыкаю наугад следующий: там Дау подарками подкупает буфетчицу, чтобы приручить ее и сделать из нее человека, но она в ответ на все его красивые фразы просит человеческого отношения. Задумка про то, как гений тянет из болота девушку, превращается в сюжет, в котором зарвавшегося горделивого интеллектуала щелкает по носу простая девчонка, это уже интереснее — но смотреть на Курентзиса, который на своих концертах умеет быть эмоциональным, а здесь похож на загримированное бревно, не хочется. Щелкаю дальше. Дау целуется с буфетчицей, курит с ней одну сигарету на двоих, собирается переспать, но тут появляется Нора и начинаются разборки. Скука. Щелкаю дальше. Дау спит со своей домработницей — и опять ничего нового. Поскольку сценария не было, диалоги тоже не прописывали, и герои мучительно пытаются что-то выдавить из себя, причем сделать это покрасивее. Опять скука. Щелкаю дальше: один из физиков пытается уговорить Нору на секс. Дальше. Кгбшник в камере прессует одну из пожилых домработниц, чтобы она доносила на своих хозяев. Ничего интересного — такие разговоры каждый день происходят в любых государственных учереждениях, где утомленные очередями люди устало соглашаются со всем, лишь бы их отпустили. В кабинках соблазнительно мигает кнопочка "следующий эпизод", поэтому как только мне становилось скучно, я перематывала дальше: мне уже было все равно, как там разовьются отношения физиков и женщин, я хотела скандальности и распиаренного треша. Наконец попадаю: по камере под усталые, вымученные приказы кгбшника — кажется, его "Дау" тоже утомил — ползает голая толстая женщина, которая пытается сохранить достоинство и не ползать, но потом без окриков, побоев или чего-либо (возможно, ей просто тоже хотелось побыстрее закончить съемки) целует парашу и по разрешению принимается одеваться. Мужу "повезло" больше — он наткнулся на эпизод с женщиной и бутылкой. До бутылки не досмотрел, потому что не смог смотреть, как по комнате мечется девушка, кричащая в камеру, чтобы ее оставили в покое, пока насильник пытался запихать ей пальцы в анальное отверстие. У меня же вдруг высвечивается эпизод философского диспута Дау и Капицы — тот самый, на который я не попала. Ученые будто соревнуются в том, кто скажет красивее и мудрее; получается не очень, и разговор больше напоминает бесконечное самоцитирование своих интервью из реальной жизни. Люди, чье мнение я уважаю, вдруг превращаются в павлинов, которые любуются собой и претенциозно говорят красивые фразы, за которыми совершенно теряется смысл. Мне становится противно, я щелкаю дальше, и попадаю на Марцинкевича: печально известную свинью уже зарезали, Тесак сидит в крови и с сожалением объясняет физикам, что хоть революция и отвратительна ему как акт насилия, эволюция — это утопия, поэтому он просто вынужден прибегнуть к своим методам. На фоне паноптикума из уставших буфетчиц, любовниц, чиновников, физиков и кгбшников лидер нацистов вдруг оказывается таким реальным, таким искренним и живым, что я завороженно слушаю его пропаганду, пока меня не выдергивает из кабинки муж.
Мы обмениваемся мнениями — муж, в отличие от меня, не строивший никаких ожиданий, воодушевлен, но в целом у нас обоих ощущение испачканности, чрезмерной агрессии и глупо потраченного времени. "Ты выключил эпизод с бутылкой, потому что не смог дальше смотреть на насилие?", спрашиваю я мужа. "Нет, просто кгбшник загрузил даже меня через экран", пожимает плечами он. Мы идем наверх, на концерт — там очень странный русский саксофонист дирижирует странными выкрикивающими пенсионерками, пока алтайский шаман на заднем плане пытается сыграться с джазовым перкуссионистом. Французы начинают уходить прямо посреди исполнения; мы не выдерживаем и уходим вслед за ними.
На выходе никаких эмоций уже нет. На противоположном берегу Сены красуется граффити "DAU ЗАЧЕМ?" Я пытаюсь ответить себе на этот вопрос до сих пор. Я не увидела ни проблесков Бергмана, ни искренности Тарковского. Операторская работа местами очень хороша, но отсутствие монтажа убивает все чувства, пробуждающиеся при просмотре: очень часто нам вообще демонстрируют два экрана с двумя планами, чтобы мы сами выбирали, куда смотреть. Если убрать мишуру с инсталляциями, хаосом и атмосферой в Шатле и де ля Виль, остаются очень сырые черновики фильма, местами напоминающие хоум-порно, местами — наглядное пособие по копированию артхаусных клише. В хорошем произведении искусства ничего нет зря: в "Дау" зря минимум две трети материала. Очень часто в ленте мелькают знакомые лица: вот известный театральный режиссер Селларс, вот современная художница Марина Абрамович, вот нейробиолог с ВВС, но радость от их появления сопоставима с радостью от просмотра домашних хроник, когда в кадре появляется кто-то из близких.

Презентация проекта «Дау» для журналистов, Театр де ля Виль, Париж, январь 2019 года
Christophe Petit Tesson / EPA / Scanpix / LETA
Christophe Petit Tesson / EPA / Scanpix / LETA
В постмодернизме искусство появляется в синтезе творца и зрителя. Тут зрителю объявляют, что он в искусстве, и он отчаянно начинает додумывать смыслы, искать аллюзии и связи оборванных сюжетных линий. Я не хочу говорить о том, что должно искусство — оно, по хорошему, вообще никому ничего не должно — но я просто вспомню мысль, которую однажды услышала на лекции по философии. По Канту, гений своим творением показывает выход из замкнутого и неизбежного круга событий, из плоскости —
в пространство. Это не обязательно эстетика, это может быть и ее отсутствие, может быть и антиэстетика; точно так же, как выход может быть в рай или в ад. Хржановский не показывает этого выхода, он показывает аквариум, в котором, цитируя одного из философствующих героев, люди плещутся, как говна в космическом вакууме, и надежды на перерождение не просто нет — ты о ней не думаешь, потому что поглощен сексом во всех его формах. Поглощен страстью, похотью, садизмом, менторством, педофилией и педерастией. "Дау" сравнивают с "Потерянным временем" Пруста или с картинами Босха, но правда в том, что здесь нет и потока мыслей. Здесь есть отчаянная попытка кучки людей закрепиться в вечности, в которой остается творение настоящих гениев.
Синтез зрителя и творца я пережила лишь однажды, и, думаю, Хржановский к нему никакого отношения не имеет. Концерт Баха, на который мы попали в Шатле, проходил в одной из гримерок. Мне очень светло было думать, что именно из нее выходили Дягилев, Нижинский и Стравинский — давать премьеру "Весны священной". Русские в Париже, по-настоящему изменившие в мир. Показавшие ему трансцендентность.
Остается только пожать плечами и вспомнить Курентзиса, который с извиняющейся интонацией объяснял что-то своим спутницам: "Извините. Orgasm is closed."
Остается только пожать плечами и вспомнить Курентзиса, который с извиняющейся интонацией объяснял что-то своим спутницам: "Извините. Orgasm is closed."