Как некрояз формирует мысль.
и косвенно этой цели служило то, что выбор слов сводили к минимуму»
Джордж Оруэлл «1984»
Открываешь очередные новости от завсегдатая интереса – Telegram, зависимом от цензуры меньше, чем любое иное новостное бюро. И видишь: «Зумер по-приколу выстрелил в лицо девятикласснику». Горячее, а подчас и обжигающее заглавие для новости, поступившей от канала Санкт-Петербурга. Листая вниз, вникаешь в суть происходившего – 15-летний парень выстрелил с травматического пистолета в 14-летнего товарища, сидящего в компании друзей на фудкорте в местном ТРЦ.
Выстрел был «шуткой», но пострадавший в больнице, а виновник «случайного» покушения под следствием.
О чем новость – узнаешь из контекста или, если повезет, с других СМИ, которые не будут прибегать к «прикольным» заголовкам, чтобы зацепить аудиторию. В этом и суть некрояза – использование в тексте или речи более выгодных формулировок.
Такие заголовки могут либо усиливать эффект от новости, либо, наоборот, сглаживать ее углы.
Сейчас знает – некрояз.
Кадр из фильма «1984» (реж. М. Рэдфорд, 1984)
Но возникает вопрос – а почему у простого человека вообще должна быть паника из-за формулировки?
Мы же называем вещи своими именами, не более.
и обычного языка – нашего, человеческого?
Некрояз, как пуля, пролетевшая мимо, но задевшая палец Фрица Платтена, в известном покушении на Ленина в 1918 году. Вроде увернулся от фатального, но аффект остался. Действительно, с некроязом так же - фатализм, да и только. Он не повышает, понижает или уничтожает смысл, а меняет его так, чтобы читатель остался с открытыми вопросами после прочтения. Он усложняет лексическую и синтаксическую структуру и придает приемлемый вид тексту.
Новояз же, описанный в «1984», уничтожает смысл первоначальных слов и историю в целом. Хотя уже сейчас существуют «словарики» новояза, собираемые по крупицам, исходя из логики, но до граждан особо они не дошли, не выгодно распространять невыгодное. Экономические кризисы станут «вызовами», повышение налоговой нагрузки – «донастройкой налогов», а массовые увольнения работников – «оптимизацией».
Говоря про современный новояз, стоит четко понимать – историю нам никто не переписывает, слова не уничтожает и книги не рвет. Новояз – синоним некроязу. Однако некрояз, в отличие от новояза, меняет смысл самой новости, а не просто синонимично заменяет какое-то слово.
Некро-язык проявляется не только в публицистике, но и в разговорной речи, что стало особенностью последних пяти лет.
Возвращаясь к «короне», мы видели «пандемию» вместо эпидемии, «летальный исход» вместо смерти. Люди начали говорить между собой некроязыческими штампами: «в отношении иноагента N приняты определенные меры».
Да, мы понимаем, кто такой иноагент и что могут быть за меры, но даже так обычная речь превращается в некро-; она нейтральная, «безвкусная» и безэмоциональная.
В таком случае мы соглашаемся, что они могут быть наложены, хотя это – незаконное наложение ограничений. А почему имеют-то они право накладывать? И «они» - Запад, который также выведен в некроязыческий, нейтральный термин, а не «варвары» или «оппозиционная, империалистическая сторона», как назвал бы Иосиф Сталин в очередных «Заметках на современные темы» в новостной сводке «Правды».
И в дипломатии, и в журналистике продолжают употреблять этот термин («санкции»), хотя политически этично ли так говорить? В СССР писали о санкциях как о незаконном ограничении, наложенном империалистами, и даже не подумали бы соглашаться с «санкциями», поскольку ни США, ни ООН – никогда не были и не будут хозяином мира, способном кому-то что-то ограничить.
Также некрояз предполагает намеренное отсутствие четко сформулированного вывода в тексте, что побуждает аудиторию к самостоятельному интерпретированию сказанного. Так, метро затопит, но что его «затопило» человек узнает лишь сам, в новостях будет новое слово «водопроявление».
«Станция метро «Дунайская» в Санкт-Петербурге снова плачет и «приносит извинения за временные неудобства»: закрыта одна из лестниц, ведущая в сторону улицы Ярослава Гашека и Бухарестской. Причина – нескончаемая битва с протечками.
«Водопроявления» превратили «Дунайскую» в декорации для фильма ужасов: на стенах – белые потеки, ступени поросли мхом. А, может, и плесенью, подозревают пассажиры. И все это – на станции, которая открылась меньше двух лет назад»
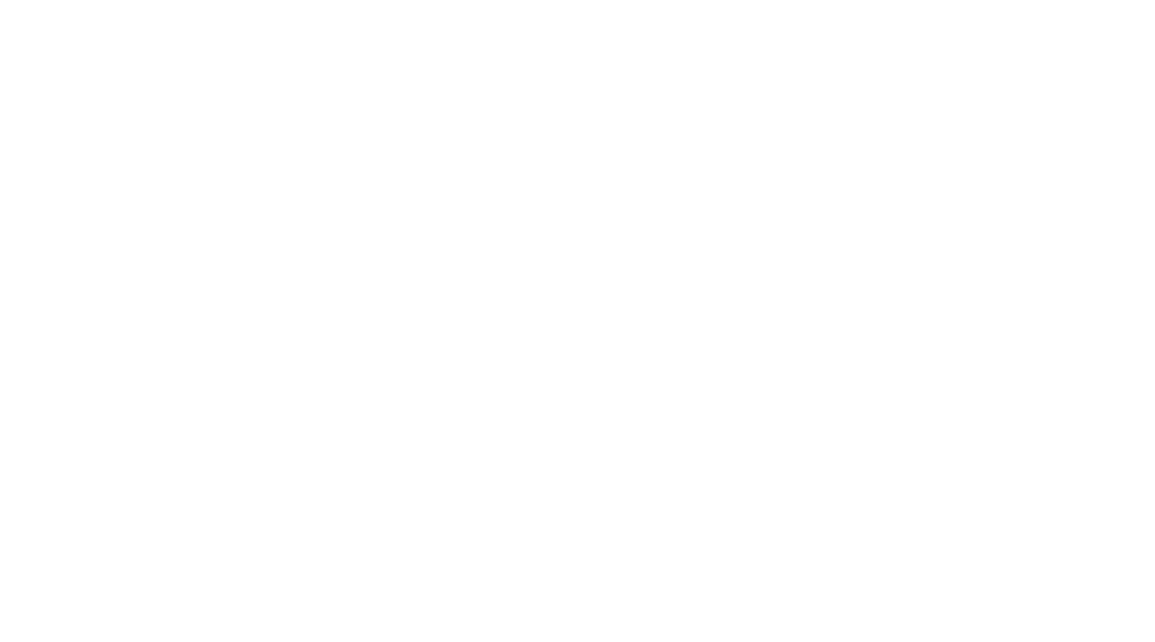
Безопасна ли? Безусловно, СМИ склонны к единению с аудиторией – писать по-бытовому, чтобы человек воспринял необходимую информацию.
Однако возникает еще один вопрос – правильно ли человек воспримет эту новость или интерпретирует ее так, как ему угодно.
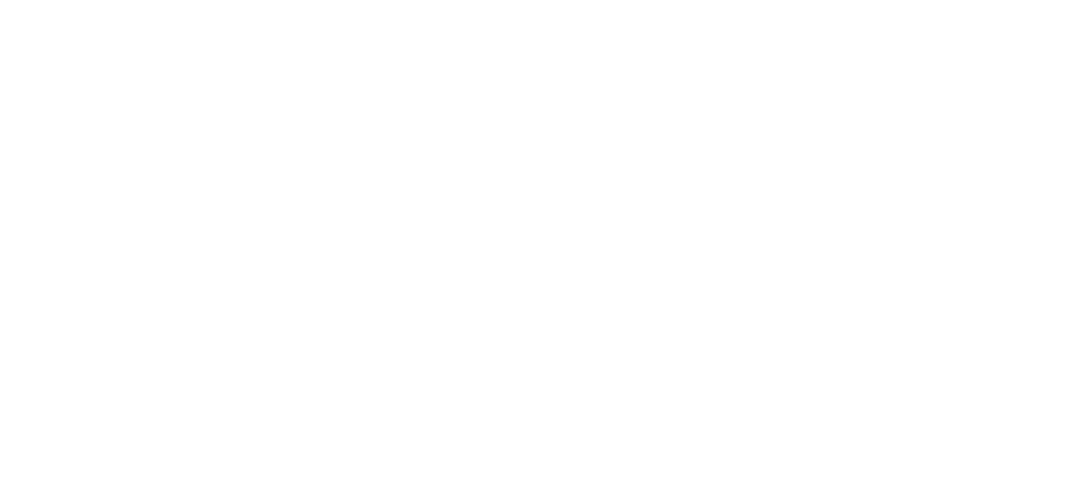
Заголовок новости в газете: «Жителей Липецка предупредили о громких хлопках в черте города». Местный житель, услышав данный звук на улице, откроет телефон и пробежит глазами по заголовкам, чтобы быстро вникнуть в информацию. И мало чего поймет – он сам лично это услышал, а новой информации не узнал. Что «хлопок» — это взрыв прилетевшего беспилотника (далее БПЛА), он поймет лишь на основе прочитанных раннее новостей.
Сейчас трактовка «хлопка» всем уже давно известна.
«Власти 12 российских регионов начали привлекать к административной ответственности граждан,
публикующих в сети информацию о последствиях ударов украинских беспилотников».
Хоть эти регионы и ввели запрет на публикацию подобных новостей, в самой России нет закона, накладывающего ответственность за распространение новостей о «прилетах». Однако все новостные паблики перешли на более нейтральную формулировку последствий таких «прилетов» - «хлопок». Пусть понимают те, кто понимает.
Хотя на территории России нет единого федерального закона, в регионах действуют региональные законы об административных правонарушениях. Так, в Калужской области действует ст. 5.11 Закона «Об административных правонарушениях в Калужской области». Штрафы приходят и журналистам, и пользователям социальных сетей пока что в Калужской и Тульской областях, но спящий режим уже включен у Адыгеи, Калмыкии, Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Курской, Ленинградской и Тверской области - в них пока что нет штрафов, но местные корреспонденты уже сейчас не решаются публиковать как «в старые добрые». В сентябре 2025 года к штрафным регионам добавилась и Оренбургская область.
Фото: Это Зенов
Редактор, работая с материалами к публикации осеннего выпуска журнала, может заменять «осевшие» слова на феминитивы.
Редактор попросил девушку прислать краткую биографию, чтобы читатель выпуска смог понять, а кого и что он читает. Девушка отправила: «Поэт, лирик. Проживаю…» и так далее. Редактор заменил «поэт» на «поэтессу», хотя она против осовремененных формулировок и феминитивов.
Меняет ли это смысл? Безусловно, нет. Является ли феминитив некроязом? – неправильный вопрос.
Вопрос-то в другом – нужно ли вообще использовать феминитив и какова его роль? Для чего вообще использовать новые термины в отношении очевидных вещей?
Использование феминитива необязательно и может быть полезно в феминистских исследованиях или для продвижения гендерного равенства, однако, вследствие «громкости» обсуждения данного феномена, во многих странах СНГ феминитив является, наоборот, продвижением неравенства. В остальном, феминитив звучит неестественно, усложняет речь и, в каком-то смысле, является языковым активизмом.
Редактор отбирает и корректирует написанное на более правильные формулировки, которые приняла бы целевая аудитория материала, который публикуется.
чтобы они были приемлемы для широкой аудитории?
Через эвфемизмы, нейтральные слова, некрояз маскирует шокирующий или неприемлемый материал в воспринимаемые аудиторией формулировки. Некрояз может обходить цензуру или создать иллюзию нейтральной новости, и это не зависит от его цели использования – понижение страха, эмоционального шока или увеличение привлекательности заголовка, текста, слова. Позитивные новости он точно не создает – публиковать клишировано очевидное в позитиве точно не получится.
Так, например, «экономический кризис» становится «периодом адаптации», а «спад в экономке» - «отрицательным ростом». Да, смысл очевиден при анализе прочитанного, но читатель не станет останавливаться на каждом словосочетании, чтобы понять, что ему хотят сказать.
«Политическая корректность языка выражается в «стремлении найти новые способы языкового выражения взамен тех,
которые ущемляют его [индивидуума]
человеческие права»
Дружинин А.С., Фомина Т.А. Эвфемизмы и дисфемизмы в конструировании опыта
Замена «неудобных» формулировок на более нейтральные часто скрывает реальную информацию. Но происходит ли это бессознательно или же осознанно подбираются термины и выражения? В политике, например, «убийство» может превратиться в «устранение» или «ликвидацию». Однако это «непонятное» событие станет таковым, если другие СМИ, ссылаясь на первоисточник, не обработают истинного смысла – убийства.
«Принятие решения о ликвидации президента Украины Владимира Зеленского является прерогативой российских спецслужб. Об этом заявил главный редактор журнала
«Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью mk.ru.
По словам Коротченко, у спецслужб РФ было три с лишним года с начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы устранить Зеленского».
Подробнее ознакомиться с приемами некрояза в журналистике криминального жанра можно в подкасте Никиты Глобы «Сенсационность заголовков: лингвистические приёмы в подаче криминальных новостей» (ссылка)
Некрояз проявляется и в пассивном залоге, хотя, в этом случае, он может менять смысл. Так, «сотрудники уволены», а «санкции введены» - упускается роль субъекта. Такой прием создает ощущение объективности, однако в некоторых случаях и обходит цензуру.
В чем проблематика некрояза?
СМИ используют различные агрегаторы, чтобы быстро отсканировать уже имеющуюся информацию. Работают они через RSS-каналы, собирающие информацию с новостных сайтов – сначала веб-канал анализирует техническую сторону новинки — код и data-данные, а затем уже содержимое. После этого материал СМИ появляется в агрегаторе.
Проблема - в невозможности агрегатора «понять» смысл новости. Они не умеют отличать шутку от правды, сарказм от серьезности, некрояз от нашего, человеческого. Когда новостной источник получает информацию, он может надеяться только на себя – понять, а что написано в данной сводке, и что изначально предполагало иное СМИ.
В день публикуется до 3 миллионов журналистских материалов и, естественно, СМИ прибегают к агрегаторам, однако, стоит заметить, что все-таки местные СМИ могут сами собирать «местную» информацию и быть в курсе событий «на месте». Однако, если представить объем поступаемой и обрабатываемой информации в ведущих мировых или региональных СМИ, станет очевидно – без агрегаторов работа невозможна. Но, возвращаясь к местным мелким СМИ, их информационная сводка может стать поверхностной и/или не соответствовать действительности.
со стороны общественности?
Говоря про современность, все уже давно привыкли к заменяемым, новым словам – по смыслу понятно, новости нейтральны, стирается оценка и личное мнение автора. Нет никакой трудности найти более подробную информацию в экспертных источниках или иных новостных сводках.
Однако, некрояз – все та же пуля, пролетевшая мимо, но задевшая палец Фрица Платтена, в известном покушении на Ленина в 1918 году. Вроде увернулся от фатального, но аффект остался. В каком-то смысле общественность задумывается над скрытым – а почему именно это слово заменили на «нейтральное»? Значит, в нем что-то есть; значит, нужно об этом подумать.
Говоря про доверие к СМИ, стоит помнить, что это работа обычных людей, которые не хотят навлечь на себя судебные риски или «отмену», в целом. Хотя и здесь, в этом случае с «отменой», читатель начинает задумываться о причине и вероятности «запрета» на него.
Фриц Платтен, товарищ и друг Ленина, после обстрела замотал палец ватой
и занялся дальше политической деятельностью.
А причина, по которой пуля была выпущена,
не имела значения.