К 85-летию Иосифа Бродского
—Яков Аркадьевич, к восьмидесятипятилетию Бродского есть ощущение, что мы о нём знаем практически все, или, скажем, почти все. Что же мы о нем можем не знать?
— (смех) Знаем действительно о нём чрезвычайно много. Может быть, даже знание наше выходит за пределы разумного, потому что это единственный случай, мне кажется, в истории мировой литературы, когда ещё при жизни пишущего человека о нём создавалась наука «бродсковедение». С пушкинистикой, возможно, это ещё пока и не может соревноваться,
но где-то уже близко. Почему это произошло? Эти десятки книг, сотни работ, диссертации. Первая книга, по-моему, Михаила Крепса, вышла чуть ли не в 1975 году: Бродский недавно переселился к тому времени в Америку. Совершенно так же, как с Пушкиным, Толстым, с Достоевским.
Все равно знание, безусловно, неполное. Бродским занялись, когда он ещё был, так сказать, вполне жив и более или менее здоров. Сравнительно недавно мы опубликовали в «Звезде» главу из книги Глеба Морева не о процессе 1964 года над Бродским, а о борьбе за освобождение, и обнаруживаются действительно какие-то неожиданные и вещи. Это тоже, конечно, уникальная история, когда за освобождение Бродского из ссылки боролась Генеральная Прокуратура с ленинградским КГБ и обкомом, пока, наконец, все-таки генеральная прокуратура, которая стояла в этом случае, как это не смешно, на страже законности. Верховный суд сократил Бродскому срок до отбытого в Норинском. Были беседы с Соломоном Волковым. Иосиф сам много давал интервью, достаточно откровенных. Поскольку его жизнь в значительной степени в ленинградский период проходила на моих глазах, то я понимаю, какие лакуны присутствуют, о чем он умалчивает или говорит не совсем, как мог бы сказать. Есть подробная биография Бродского под авторством замечательного и талантливого поэта Льва Лосева, конспективная, в большей степени творческая и человеческая. Есть причины того, чего мы о Бродском не знаем. Он же оставил в некотором роде завещание, в котором просил не писать его биографии, не заниматься жизнью. Хотите исследовать стихи? Пожалуйста. Что касается личности, это его личность. И просил у друзей не способствовать изучению биографии. Не знаю, насколько он понимал некую наивность просьбы, ведь это практически нереально. Мы не знаем, что он думал о себе и о логике своего существования. У него, как и у любого большого поэта, наверняка была стратегия построения автомифа. Что за ним скрывается — другой вопрос. Я стараюсь никогда не касаться личных дел, на что читатель очень падок. Но, понимаете, Пушкин тоже не рассчитывал на то, что его письма жене будут опубликованы и был в бешенстве, когда стало известно, когда понял, что о его письме к Наталье Николаевне кто-то знает. Но если бы они не были опубликованы, мы бы многое не знали о личности Пушкина.

—Правда, что в России он впервые был опубликован в «Звезде»?
—Нет, нет. Во-первых, его четыре стихотворения были опубликованы
еще в шестидесятые годы. «Баллада о маленьком буксире» в «Костре», например, в 1962 году, в урезанном виде. В 1987 году в «Новом мире» была одна публикация уже после изгнания. Он был очень недоволен и всячески ругался. В «Звезде» я опубликовал нашу переписку за 40 лет, где он поносит «Новый мир». С купюрами, конечно. Мы публиковали его вещи, которые не мог публиковать никто. Поэму, «Столетнюю войну» с разрешения, он мне оставлял ее еще перед ссылкой. Очень не сразу. Его душеприказчица Энн Шеллберг — очень строгая девушка. Дальше опубликовали большое важное стихотворение «Ручей». Некоторое оттуда он использовал в большой «Элегии Джону Донну».
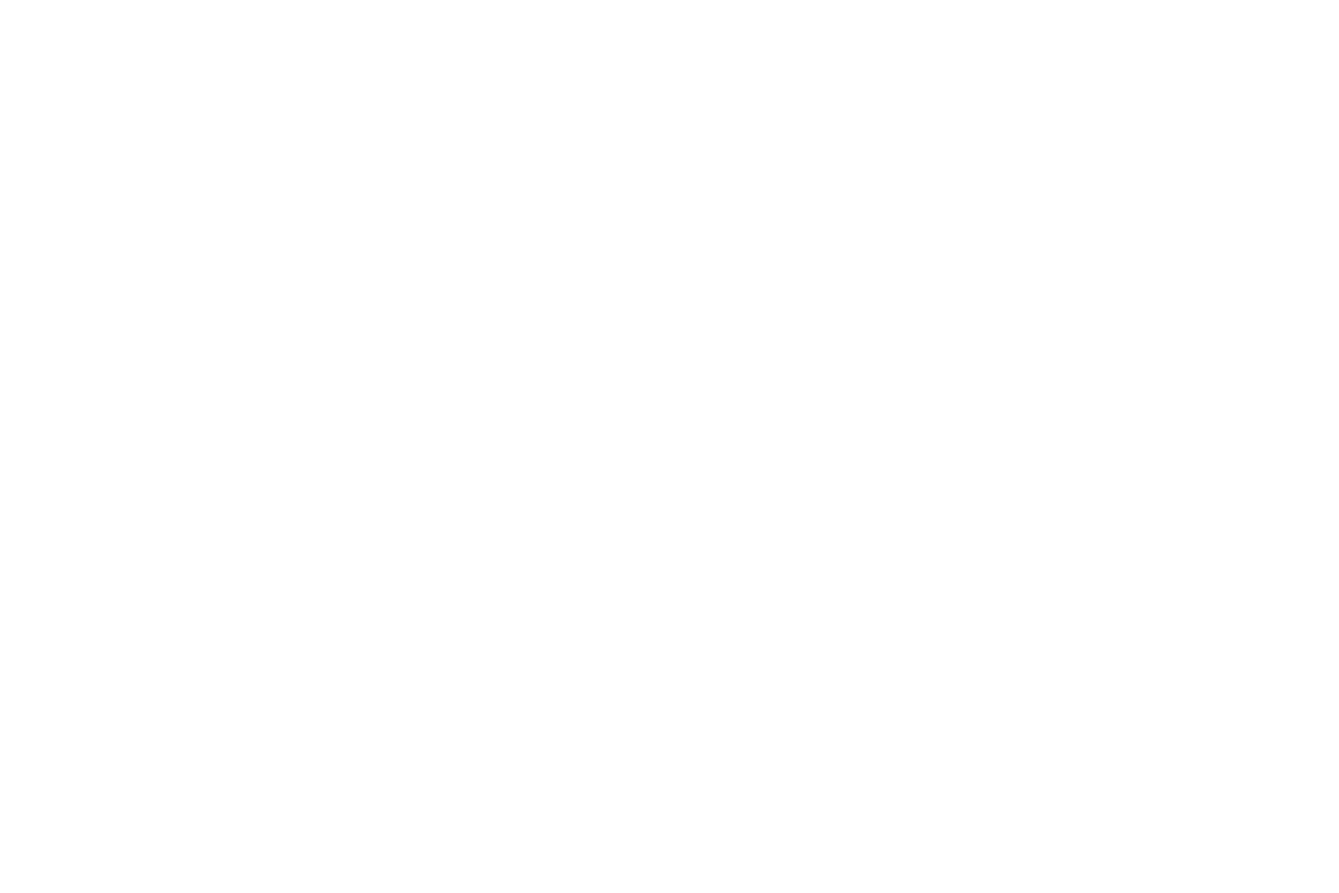
—Честно сказать, не очень люблю выражение «ахматовские сироты». В нем есть какая-то фальшь. Компания эта слишком быстро распалась, и довольно мучительным образом. Несмотря на все старания Жданова, Ахматова никуда не делась и вскоре стала, тем не менее, публиковаться. Но это были три очень талантливых человека: Евгений Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий Бобышев. Все они учились в Технологическом институте. Это студенческая дружба и поэтические связи. Думаю, это длилось года три. В неформальной жизни Ленинграда существенная компания. На память приходит стихотворение Блока «Как жили поэты», чтобы объяснить вам, почему они рассорились. Дима Бобышев вёл себя весьма некорректно по отношению к Бродскому. С Найманом довольно сложно. С Рейном отношения остались до самого конца, хотя тоже там были некоторые, как говорил гоголь, ручейки и пригорки.
—Вы были на похоронах у Анны Ахматовой. Что вы запомнили об этом дне?
— Была масса народу, и это происходило в глубокое советское время. Масса лучшего народа. Главное впечатление, кроме горестного чувства ухода Анны Андреевны, хотя я не был с ней близок, видел, был у нее всего один раз, понимая, что я малоинтересен для нее. Тут две вещи: гражданская панихида была в Союзе писателей. Надгробную речь говорил Михаил Дудин, очень неплохой человек и небесталанный поэт. Но поэт глубоко советский, и у меня было ощущение, что, в общем, не Михаилу Александровичу бы говорить речь над гробом Ахматовой. Дальше были Никольский собор и кладбище, и это была действительно горюющая русская интеллигенция.
—Ахматова сказала фразу: «Какую биографию, однако, делают нашему рыжему». В чем феномен биографии «рыжего» и почему Бродский продолжает быть интересен современному человеку?
—Потому что окружение Ахматовой и она сама — это люди с трагическими биографиями. Убитый Гумилев, убитый Мандельштам. Анна Андреевна, в своем роде, была пушкинисткой и понимала, какую роль в восприятии поэта играет его гибель. Ей было понятно, что те несчастья, которые свалились на любимого ей юного Бродского, будут освещать его и в будущем.
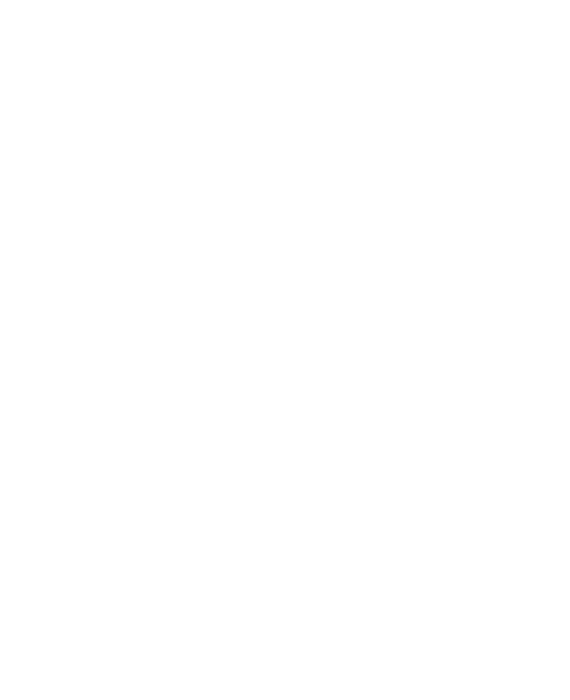
—Занятный вопрос. Любил жаргон ленинградской молодежи и богемы, музыкантов, джазовый. Нет, ну вообще он говорил нормально, но любил использовать жаргон, придающий особую прелесть устной речи. Бродский даже экспериментировал в «Представлении», пытаясь как-то представить все советские слои общества, говор улицы. Специально о языке мы никогда не говорили, но когда была задумана реформа языка «как слышится, так и пишется» Иосиф написал большой текст в «Известия» с подписью «архитектор Кошкин».
—Как началась его ленинградская слава?
—Довольно быстро. Первые стихи, которые потом он не очень любил, как «Пилигримы», скажем, они очень быстро пошли в самиздате, но очень важно было, как он читал. В тот период ему очень важен был читатель и слушатель. Бродский охотно читал стихи в нашем университетском общежитии на Шкиперке, потом мы были в 58-59 году в театральном институте, где он подружился с Борисом Тищенко потом на всю жизнь. Слава была достаточно ограниченная, но потом им заинтересовалась и взрослая интеллигенция. В основном, переводчики. Например, Лидия Гинзбург.
— В «Пушкинском доме» говорят, что рукописей Бродского у них немного, но бытует история о знаменитом сундуке, где хранится его архив и документы без доступа к широкому читателю...
—Правда, архив был в таком сундучке порядочного размера, долгое время он хранился у меня, а теперь находится в Публичной библиотеке. Переписка с Мариной Басмановой, дневники, рукописи стихом. В 1990 по просьбе Марины он лично закрыл сундук на 50 лет. Рукописи и черновики исследователям трогать разрешено. Прошло уже тридцать пять лет, да? Получается, всего каких-то пятнадцать лет, и вы все увидите. Бумаги в идеальном порядке и полностью готовы для публикации. Подождать немножко надо.
—Ну, не часто. Перезванивались мы уже где-то с 1988 года. До этого переписывались, в какой-то момент он перестал почти писать. Звонил родителям 24 мая на день рождения. Мы собирались у Марии Моисеевны и Александра Ивановича Бродских. И из Швеции, и из Италии на пару минут, и мы могли перекинуться несколькими словами.
—О чем был последний разговор?
—Стыдно вспомнить, это было приблизительно за год до его ухода. Была какая-то программа в России. Мне позвонили, что есть идея привести Бродского на сутки в Петербург икогнито. Все оформят, все сделают. Позвонил и говорю: «Ося, вот там такое экзотическое предложение». Он помолчал, я не представлял себе, насколько плохо он к тому времени себя чувствовал. Сказал: «Нет, знаешь, это сейчас не очень кстати»...
—Что бы вы ему сказали, если бы этот разговор был не о предложении?
—Не знаю, сейчас это очень трудно себе представить. По телефону мы, обычно, не философствовали. В значительной степени обсуждали какие-то важные жизненные вещи. Он просил меня присматривать за его публикациями здесь. Может быть, деловой, о какой-то очередной его публикации. Там потом вот как раз семитомник готовился следующий после четырехтомника...
у журнала “Звезда”?