ТРУШКОВА ПОЛИНА
трагедии космической гонки
Ты напряжённо сидишь за компьютером и видишь, что в программном коде просто пропущена одна чёрточка над символом. Всего одна ошибка. И из-за неё вчера взорвался космический корабль Mariner-1.
Ты выходишь на улицу, достаёшь сигарету и думаешь, как завтра будешь объяснять журналистам, почему на воздух взлетели 160 миллионов долларов.
Ты выходишь на улицу, достаёшь сигарету и думаешь, как завтра будешь объяснять журналистам, почему на воздух взлетели 160 миллионов долларов.
Сложно представить, о чём на самом деле думал представитель НАСА Ричард Моррисон, когда нервно курил эту придуманную мной сигарету. Но во время отчёта перед Конгрессом США 31 июля 1962 года он говорил:
«…Из-за пропуска дефиса контрольные системы аппарата получали неверную информацию. В результате компьютер отдал команду на сильное отклонение влево, соплом вниз, и аппарат потерпел крушение».
«…Из-за пропуска дефиса контрольные системы аппарата получали неверную информацию. В результате компьютер отдал команду на сильное отклонение влево, соплом вниз, и аппарат потерпел крушение».
И даже в этом объяснении он ошибся. Это был не дефис, а черта над символом «R» в формуле усреднения. Но эта оговорка просто сделала трагедию понятнее для налогоплательщиков.
В ходе гонки были и более дорогие ошибки, стоившие жизней: героя Советского Союза, американской учительницы, звёздных космонавтов и тех, кто только начинал свой путь. Иногда у космических ошибок есть автор. Почти всегда его имя засекречено, как в случае с программистом, который писал код для Mariner-1. Но главная причина — непростительная спешка, в которой велась космическая гонка СССР и США.
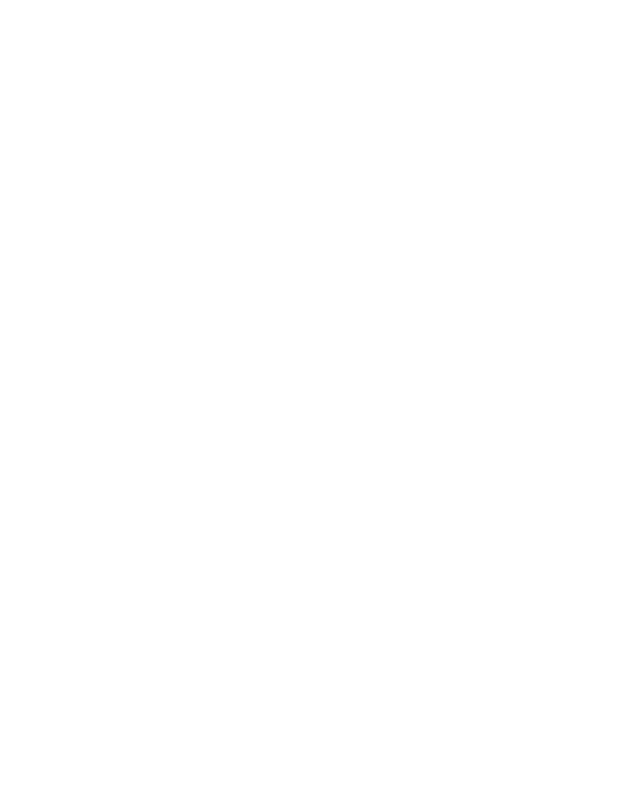
Взрыв Mariner-1
https://clck.ru/3Q4NrL
Гонка: вдохновляющая, дорогая и смертельная
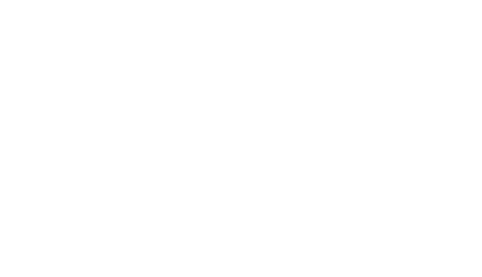
Карикатура Лесли Гилберта Иллингворта в газете Daily Post опубликована в октябре 1962, сразу после окончания Карибского кризиса — пиковой точки Холодной войны. На ней изображены генеральный секретарь Советского Союза Никита Хрущёв и президент США Джон Ф. Кеннеди. Буква Н на ракетах говорит, что это водородные бомбы.
Почему же люди готовы были отдать свою жизнь ради космоса? Не только потому, что звёзды — это красиво, а покорение новых планет будоражит сознание. Космическая гонка — одно из проявлений холодной войны.
Она началась одновременно с окончанием Второй мировой. Мир разделился на два полюса. Вклад Советского Союза в победу вызвал всплеск симпатий к социализму. В 1940-х коммунисты были в правительствах 13 буржуазных государств, а число стран, установивших с СССР дипломатические отношения, выросло с 26 до 52. Страна Советов планировала и дальше распространять своё влияние.
США, конечно, были с такими планами не согласны. Мировая война позволила Америке вырастить экономику в полтора раза, у неё было 50% всего мирового производства.
В декабре 1945 года президент Г. Трумэн поручил госсекретарю Д. Бирнсу проводить жёсткую политику по отношению к СССР. Так началась холодная война.
Существовало множество планов, таких как «Немыслимое», «Тотэлли» или «Дропшот», по которым холодную войну предполагалось перевести в ядерную и очень горячую фазу. Появление атомной бомбы в СССР и другие успехи в гонке вооружений снова охладили войну.
Космос стал мирной витриной военных разработок. Так космическая гонка стала максимально публичным проявлением противостояния. Ведь многие военные технологии можно было использовать для освоения космического пространства.
Например, носители космических кораблей — прямые потомки межконтинентальных баллистических ракет. Р-7 унесла к звёздам «Спутник» и «Восток». А Atlas и Redstone — военного происхождения — стали носителями Mercury. Из военной отрасли в космос пришли топливо и теплоизоляция, необходимая для входа в атмосферу.
Так космическая гонка превратилась в зрелище государственной важности. Нужно было перегнать и обогнать, а спешка порождала ошибки. Именно поэтому предварительные испытания иногда проводили небрежно.
Она началась одновременно с окончанием Второй мировой. Мир разделился на два полюса. Вклад Советского Союза в победу вызвал всплеск симпатий к социализму. В 1940-х коммунисты были в правительствах 13 буржуазных государств, а число стран, установивших с СССР дипломатические отношения, выросло с 26 до 52. Страна Советов планировала и дальше распространять своё влияние.
США, конечно, были с такими планами не согласны. Мировая война позволила Америке вырастить экономику в полтора раза, у неё было 50% всего мирового производства.
В декабре 1945 года президент Г. Трумэн поручил госсекретарю Д. Бирнсу проводить жёсткую политику по отношению к СССР. Так началась холодная война.
Существовало множество планов, таких как «Немыслимое», «Тотэлли» или «Дропшот», по которым холодную войну предполагалось перевести в ядерную и очень горячую фазу. Появление атомной бомбы в СССР и другие успехи в гонке вооружений снова охладили войну.
Космос стал мирной витриной военных разработок. Так космическая гонка стала максимально публичным проявлением противостояния. Ведь многие военные технологии можно было использовать для освоения космического пространства.
Например, носители космических кораблей — прямые потомки межконтинентальных баллистических ракет. Р-7 унесла к звёздам «Спутник» и «Восток». А Atlas и Redstone — военного происхождения — стали носителями Mercury. Из военной отрасли в космос пришли топливо и теплоизоляция, необходимая для входа в атмосферу.
Так космическая гонка превратилась в зрелище государственной важности. Нужно было перегнать и обогнать, а спешка порождала ошибки. Именно поэтому предварительные испытания иногда проводили небрежно.
Ошибки, связанные с испытаниями
23 апреля 1967 года в 03:35 по московскому времени «Союз-1» с Владимиром Комаровым отправился в космос с Байконура. Этот полёт имел огромное значение: успех закрепил бы уверенное превосходство СССР в космической гонке. По планам, «Союз-1» вошёл бы в космическое пространство, а там к нему пристыковался «Союз-2». Владимир Комаров смог бы пожать руку второму космонавту, и они вместе чуть позже отправились бы домой.
23 апреля 1967 года в 03:35 по московскому времени «Союз-1» с Владимиром Комаровым отправился в космос с Байконура. Этот полёт имел огромное значение: успех закрепил бы уверенное превосходство СССР в космической гонке. По планам, «Союз-1» вошёл бы в космическое пространство, а там к нему пристыковался «Союз-2». Владимир Комаров смог бы пожать руку второму космонавту, и они вместе чуть позже отправились бы домой.
![Владимир Комаров. Подготовка к полёту. [Александр Моклецов / РИА Новости]](https://thb.tildacdn.com/tild6661-3137-4635-a262-666434623736/-/empty/original-17kv.jpg)
![Союз-1 [https://clck.ru/3Q4Xhd]](https://thb.tildacdn.com/tild3563-6534-4537-b431-326135383933/-/empty/Soyuz_TMA-7_spacecra.jpg)
![Имя Владимира Комарова на Кремлёвской стене [Александр Моклецов / РИА Новости]](https://thb.tildacdn.com/tild6366-6530-4839-b533-393936636335/-/empty/NjHyQvIX6uvkMRFztc6_.jpg)
Но было известно, что Америка уже работала над программой «Аполлон». Поэтому на не самые удачные тестовые запуски «Союзов» решили проигнорировать.
Почти сразу после взлёта всё пошло не так. Одна из солнечных панелей не раскрылась — корабль недобирал энергию, умная автоматика начинала вести себя слепо. Приходилось тратить больше топлива, а оно необходимо для устойчивого спуска. Стало понятно: заявленная программа невозможна.
«Союз-2», который должен был стартовать на следующий день, так и не полетел. Официально — гроза и проблемы с электрикой на стартовой площадке. На самом деле всем уже было ясно: лететь навстречу аварийному кораблю, у которого не работает половина «органов чувств», — фатально.
Кстати, позже выяснится, что у «Союза-2» была не протестирована та же ошибка, что и у «Союза-1». Космонавта Быкова, который должен был в нём лететь, вероятно, постигла бы та же участь, что и Комарова.
Почти сразу после взлёта всё пошло не так. Одна из солнечных панелей не раскрылась — корабль недобирал энергию, умная автоматика начинала вести себя слепо. Приходилось тратить больше топлива, а оно необходимо для устойчивого спуска. Стало понятно: заявленная программа невозможна.
«Союз-2», который должен был стартовать на следующий день, так и не полетел. Официально — гроза и проблемы с электрикой на стартовой площадке. На самом деле всем уже было ясно: лететь навстречу аварийному кораблю, у которого не работает половина «органов чувств», — фатально.
Кстати, позже выяснится, что у «Союза-2» была не протестирована та же ошибка, что и у «Союза-1». Космонавта Быкова, который должен был в нём лететь, вероятно, постигла бы та же участь, что и Комарова.
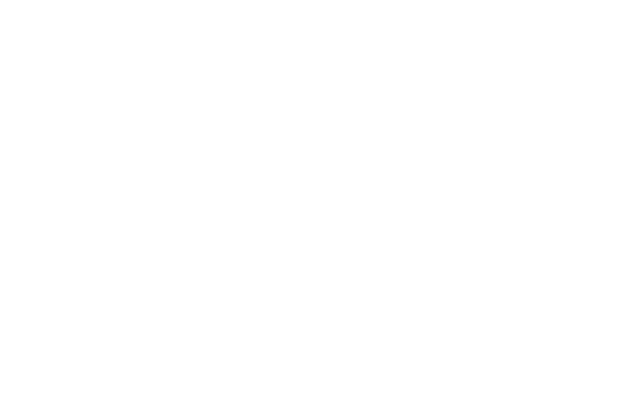
Останки Владимира Комарова в морге госпиталя имени Н. Н. Бурденко, 25 апреля 1967 года
[Александр Сергеев / РИА Новости]
[Александр Сергеев / РИА Новости]
Владимир Михайлович уводил корабль на внеплановый спуск 24 апреля. Началось самое страшное — не сработал основной парашют. Запасной раскрылся, но из-за того, что капсула с космонавтом раскрутилась при входе в атмосферу, он тоже запутался. Спускаемый аппарат ударился о степь Оренбургской области. Смерть наступила мгновенно.
Это первая гибель человека в пилотируемом космическом полёте.
После трагедии запуск «Союзов» приостановили почти на полтора года. Целый пласт изменений прошёл через конструкторские бюро: от системы ориентации до материалов и алгоритмов спасения. Нельзя объявлять достаточными испытания, которые не воспроизводят условия реального полёта: с вибрацией, температурой, человеческим фактором и остаточной неисправностью соседней подсистемы.
Цена сокращённого цикла испытаний — имя на Кремлёвской стене.
Это первая гибель человека в пилотируемом космическом полёте.
После трагедии запуск «Союзов» приостановили почти на полтора года. Целый пласт изменений прошёл через конструкторские бюро: от системы ориентации до материалов и алгоритмов спасения. Нельзя объявлять достаточными испытания, которые не воспроизводят условия реального полёта: с вибрацией, температурой, человеческим фактором и остаточной неисправностью соседней подсистемы.
Цена сокращённого цикла испытаний — имя на Кремлёвской стене.
Были случаи, когда космические корабли не были готовы и к самим испытаниям. 27 января 1967 года, Мыс Канаверал, стартовый комплекс 34. Три человека — ветераны Вирджил «Гас» Гриссом, Эд Уайт и новичок Роджер Чаффи — готовятся к обычному, как всем казалось, «плагс-аут»-тесту. Это финальная репетиция, при которой корабль отключают от всех земных систем питания и коммуникаций и переводят на автономное питание — на собственные батареи и внутренние системы. Если «плагс-аут»-тест пройден — можно лететь в космос.
Атмосфера в кабине «Аполлона-1» была наполнена кислородом под давлением, почти в полтора раза превышающим атмосферное. Это инженерное упрощение превращало салон корабля в пороховой погреб. Материалы обивки, проводка и смазки — при таком количестве кислорода горело всё.
Атмосфера в кабине «Аполлона-1» была наполнена кислородом под давлением, почти в полтора раза превышающим атмосферное. Это инженерное упрощение превращало салон корабля в пороховой погреб. Материалы обивки, проводка и смазки — при таком количестве кислорода горело всё.
- Virgil Ivan «Gus» GRISSOM[https://clck.ru/3Q4YsS]
- Edward Higgins White, II[https://clck.ru/3Q4YpK]
- Roger Bruce Chaffee[https://clck.ru/3Q4YmA]
Экипаж чувствовал неладное. Связь то и дело глохла. Гриссом, командир экипажа, раздражённо прикрикнул в микрофон: «Как мы собираемся долететь до Луны, если не можем наладить связь между тремя зданиями?» Гриссом на Луне так и не окажется.
В 18:31:04 тишину нарушил крик из динамиков: «Огонь!» Но пламя в чистом кислороде — это не просто огонь. Это взрывная волна, пиролиз, пожирающий всё за секунды. Температура и давление внутри росли с чудовищной скоростью. Многослойный люк, открывавшийся внутрь, стал ловушкой: его невозможно было сдвинуть под колоссальным напором раскалённых газов. Снаружи техники в отчаянии наблюдали, как обшивка командного модуля вздувается и трескается. Борьба с люком длилась пять мучительных минут. Когда его наконец вскрыли, было уже поздно. Экипаж погиб от удушья и ожогов. Это была первая публичная трагедия NASA.
Программа «Аполлон» замерла на полтора года. Корабль перепроектировали с нуля: новый взрывной люк, атмосфера из безопасной азотно-кислородной смеси на старте, тщательнейший аудит каждого материала на горючесть.
Программа «Аполлон» замерла на полтора года. Корабль перепроектировали с нуля: новый взрывной люк, атмосфера из безопасной азотно-кислородной смеси на старте, тщательнейший аудит каждого материала на горючесть.
На стартовом комплексе № 34 установлены мемориальные доски в память об экипаже. На них написано: «Помните их не за то, как они умерли, но за те идеалы, ради которых они жили». Иногда, когда задумываешься о допущенных ошибках, становится так стыдно и больно, что хочется о них и не помнить вовсе. Легче вспоминать прекрасную цель к которой летели эти космонавты.
Ошибки, связанные с проектированием
Знали ли люди, что конструкции, которые они запускают в космос, небезопасны? Безусловно. Думали ли они, что полёт на корабле, который спроектировала их команда, закончится смертями? Точно нет.
Какие-то ошибки были сделаны с мыслью «как-нибудь да пронесет». Времени мало, сверху давят, может, всё будет хорошо, брак никто не заметит. Удивительно только то, что «авось» существовал в такой сложнейшей сфере, как освоение космоса и ракетостроение.
30 июня 1971-го домой возвращались трое. Внутри капсулы «Союза-11» сидели Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков. Они сделали невозможное: провели 23 дня на первой в мире орбитальной станции «Салют-1», доказав, что человек может жить и работать в космосе почти месяц. Всё было по плану.
Когда поисковая группа открыла люк спускаемого аппарата, на них пахнуло холодом. Космонавты были на своих местах, пристёгнутые, без шлемов. Внешних повреждений капсулы — никаких. Парашюты сработали, двигатели мягкой посадки — тоже. Казалось, что они просто спят.
Причина смерти троих космонавтов — крошечный клапан выравнивания давления. Он должен открываться уже в плотных слоях атмосферы, на высоте нескольких километров, чтобы уравнять давление в кабине и снаружи перед посадкой. Но этот клапан приоткрылся раньше времени — на высоте, где вакуум.
Знали ли люди, что конструкции, которые они запускают в космос, небезопасны? Безусловно. Думали ли они, что полёт на корабле, который спроектировала их команда, закончится смертями? Точно нет.
Какие-то ошибки были сделаны с мыслью «как-нибудь да пронесет». Времени мало, сверху давят, может, всё будет хорошо, брак никто не заметит. Удивительно только то, что «авось» существовал в такой сложнейшей сфере, как освоение космоса и ракетостроение.
30 июня 1971-го домой возвращались трое. Внутри капсулы «Союза-11» сидели Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков. Они сделали невозможное: провели 23 дня на первой в мире орбитальной станции «Салют-1», доказав, что человек может жить и работать в космосе почти месяц. Всё было по плану.
Когда поисковая группа открыла люк спускаемого аппарата, на них пахнуло холодом. Космонавты были на своих местах, пристёгнутые, без шлемов. Внешних повреждений капсулы — никаких. Парашюты сработали, двигатели мягкой посадки — тоже. Казалось, что они просто спят.
Причина смерти троих космонавтов — крошечный клапан выравнивания давления. Он должен открываться уже в плотных слоях атмосферы, на высоте нескольких километров, чтобы уравнять давление в кабине и снаружи перед посадкой. Но этот клапан приоткрылся раньше времени — на высоте, где вакуум.
Воздух ушёл почти мгновенно, а скафандров на космонавтах не было. Нужно было посадить в «Союз» сразу троих. Чтобы «впихнуть» космонавтов, убрали скафандры. Вроде должно было получиться, корабль герметичен… Вообще, у космонавтов был ручной рычаг, которым они могли бы перекрыть бракованный клапан. Но никто не мог вдохнуть, чтобы за ним потянуться.
Это была первая смерть людей в космосе — не на старте и не при посадке, а там, где воздуха нет по определению. И это была ошибка проектного решения. Не взрыв, не пожар, не человеческий фактор в кабине, а решение, принятое на земле: «а давайте попробуем без скафандров влезть?»
Бывали случаи, что о возможной ошибке предупреждали заранее. Но картинка и победа были важнее.
Это была первая смерть людей в космосе — не на старте и не при посадке, а там, где воздуха нет по определению. И это была ошибка проектного решения. Не взрыв, не пожар, не человеческий фактор в кабине, а решение, принятое на земле: «а давайте попробуем без скафандров влезть?»
Бывали случаи, что о возможной ошибке предупреждали заранее. Но картинка и победа были важнее.
28 января 1986 года. На стартовой площадке под утренним солнцем поблёскивает бело-серый шаттл «Челленджер». Запланированный полёт должен был открыть новую эру космоса — эру, когда космонавтика станет чем-то обыденным и рутинным. Например, из космоса будут вести уроки.
Именно поэтому в составе экипажа учительница Криста Маколифф. Она победила в национальном конкурсе и теперь проведёт в космосе два урока: первый — о том, как устроен корабль изнутри, второй — о будущем космонавтики.
Пуск несколько раз откладывали. И вот в ночь перед финальной датой запуска температура опустилась до минусовой. Инженеры компании Morton Thiokol, производившей твердотопливные ускорители, пытались убедить руководство отложить старт: при низких температурах резиновые уплотнители теряют эластичность и могут не сдержать давление. Но на совещании решили, что старт не будут откладывать из-за небольшого риска, связанного с какими-то резиновыми уплотнителями.
Именно поэтому в составе экипажа учительница Криста Маколифф. Она победила в национальном конкурсе и теперь проведёт в космосе два урока: первый — о том, как устроен корабль изнутри, второй — о будущем космонавтики.
Пуск несколько раз откладывали. И вот в ночь перед финальной датой запуска температура опустилась до минусовой. Инженеры компании Morton Thiokol, производившей твердотопливные ускорители, пытались убедить руководство отложить старт: при низких температурах резиновые уплотнители теряют эластичность и могут не сдержать давление. Но на совещании решили, что старт не будут откладывать из-за небольшого риска, связанного с какими-то резиновыми уплотнителями.

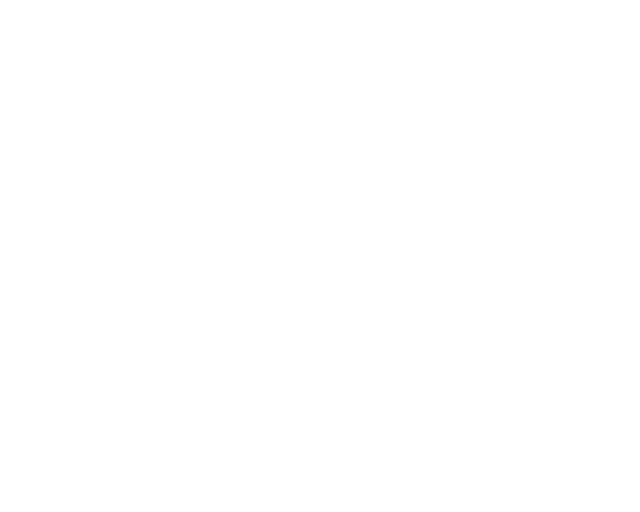
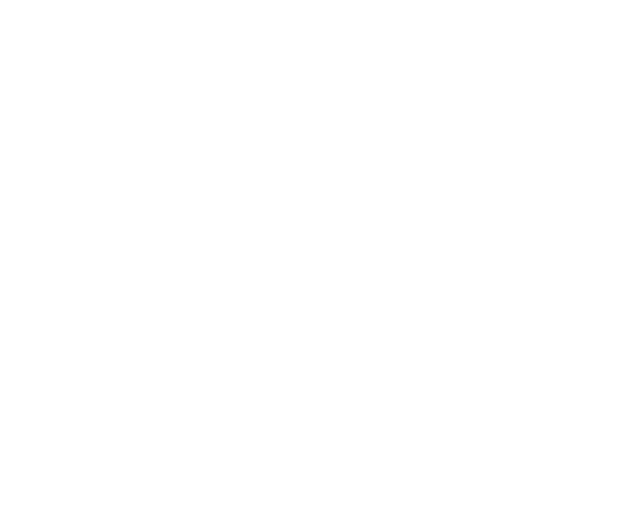
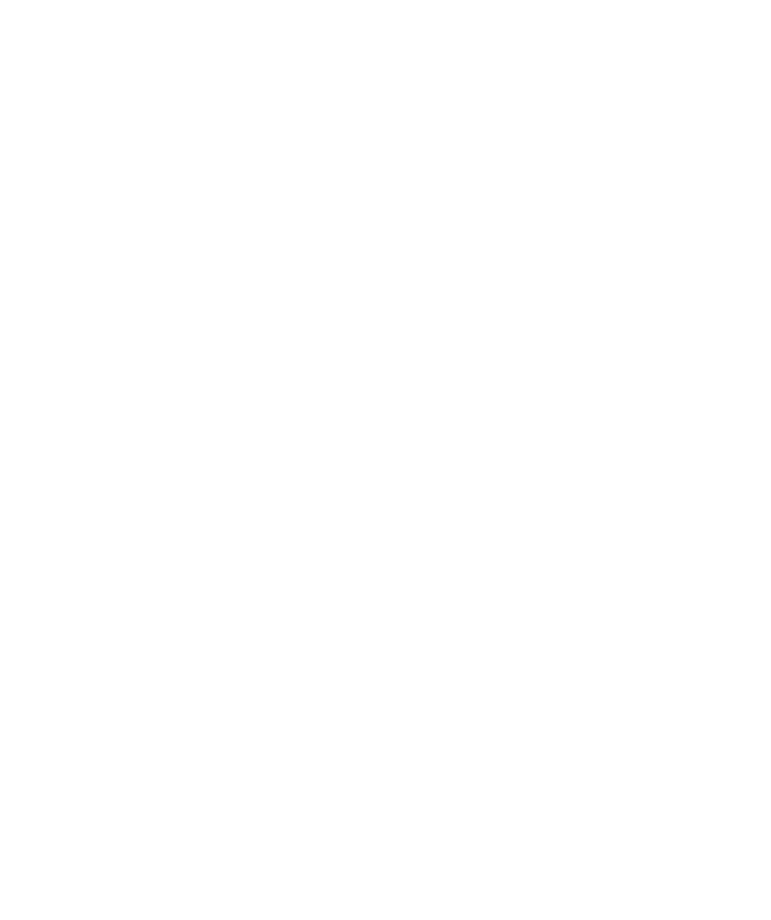
Мемориал команды Челленджера
[https://clck.ru/3Q4a4c]
[https://clck.ru/3Q4a4c]
В 11:38 «Челленджер» оторвался от земли; за ним следила толпа зрителей и десятки репортёров. Через 58 секунд после старта камера крупным планом показала струю дыма у основания правого ускорителя. Ещё через 15 секунд шаттл загорелся и превратился в гигантский огненный шар. На высоте 14 километров конструкция разрушилась. Семеро членов экипажа погибли.
Комиссия установила: причиной стала утечка горячих газов через потерявшее эластичность кольцо уплотнителя. Пламя прожгло стенку бака с жидким водородом и кислородом — ракета взорвалась. Но оказалось, это не единственная причина. Конструкция ускорителя, закреплённая болтами и кольцами, с самого начала вызывала вопросы у инженеров. NASA знало о проблемах: на предыдущих пусках были следы прогаров и деформаций. Но проект приняли в эксплуатацию, посчитав риск приемлемым.
Последний и смертельный урок, в котором поучаствовала американская учительница, — никакой риск не может быть «приемлемым» в космосе. Прислушались ли к нему?
Комиссия установила: причиной стала утечка горячих газов через потерявшее эластичность кольцо уплотнителя. Пламя прожгло стенку бака с жидким водородом и кислородом — ракета взорвалась. Но оказалось, это не единственная причина. Конструкция ускорителя, закреплённая болтами и кольцами, с самого начала вызывала вопросы у инженеров. NASA знало о проблемах: на предыдущих пусках были следы прогаров и деформаций. Но проект приняли в эксплуатацию, посчитав риск приемлемым.
Последний и смертельный урок, в котором поучаствовала американская учительница, — никакой риск не может быть «приемлемым» в космосе. Прислушались ли к нему?
Ошибки, связанные с кодом
Ошибки, связанные с программным обеспечением, кажутся просто идиотскими. Как можно было перепутать систему мер — ньютон и фунт-силу? Так и было в 1998-м при запуске американского аппарата Mars Climate Orbiter: он сгорел в атмосфере. Ведь это тысячи часов работы тысячи умов — неужели никто не мог перепроверить? Помимо работы в сжатых сроках, когда времени на перепроверку иногда просто не было, влияло и то, что тогда был каменный век компьютерных технологий. Код часто писали прямо в машинных инструкциях, в шестнадцатеричном коде, перфорируя его на картах. Экспертов-программистов было немного, а протестировать полную программу полёта было невозможно. Тестирование было фрагментарным.
Мы не знаем наверняка, но можем предположить, что другая космическая ошибка 10 мая 1971 года произошла по одной из этих причин.
Ошибки, связанные с программным обеспечением, кажутся просто идиотскими. Как можно было перепутать систему мер — ньютон и фунт-силу? Так и было в 1998-м при запуске американского аппарата Mars Climate Orbiter: он сгорел в атмосфере. Ведь это тысячи часов работы тысячи умов — неужели никто не мог перепроверить? Помимо работы в сжатых сроках, когда времени на перепроверку иногда просто не было, влияло и то, что тогда был каменный век компьютерных технологий. Код часто писали прямо в машинных инструкциях, в шестнадцатеричном коде, перфорируя его на картах. Экспертов-программистов было немного, а протестировать полную программу полёта было невозможно. Тестирование было фрагментарным.
Мы не знаем наверняка, но можем предположить, что другая космическая ошибка 10 мая 1971 года произошла по одной из этих причин.
«Космос-419» должен был выйти на орбиту Марса и с высокой точностью определить его положение в пространстве (эфемериды). Это были очень важные данные, от которых зависело производство станций «Марс-2» и «Марс-3». Они должны были нести спускаемые аппараты для первой в истории мягкой посадки на Красную планету.
Старт прошёл успешно: ракета-носитель «Протон-К» вывела станцию на орбиту. Но разгонный блок «Д» работать отказался. «Космос-419» к Марсу не полетел.
Из-за ошибки в разряде, команда на запуск двигателя должна была поступить не через несколько десятков минут, как требовала программа полёта, а через полторы сотни часов (около 6,25 суток). К тому времени и станция, и разгонный блок уже давно остались бы без энергии и не смогли бы выполнить манёвр. И через два дня спутник сгорел в атмосфере. Этот небольшой брак в программе бортового компьютера привёл к потере дорогостоящего аппарата и лишил СССР шанса обогнать американский «Маринер-9» в выходе на орбиту Марса.
На ошибках учатся. Но через 17 лет аппарат «Фобос-1», изучающий Марс и его спутник, трагически развернул солнечные батареи к Солнцу и «умер». С Земли была отправлена команда, в которой случайно была пропущена буква «В». Бортовой компьютер её не понял и решил отключить систему ориентации.
Старт прошёл успешно: ракета-носитель «Протон-К» вывела станцию на орбиту. Но разгонный блок «Д» работать отказался. «Космос-419» к Марсу не полетел.
Из-за ошибки в разряде, команда на запуск двигателя должна была поступить не через несколько десятков минут, как требовала программа полёта, а через полторы сотни часов (около 6,25 суток). К тому времени и станция, и разгонный блок уже давно остались бы без энергии и не смогли бы выполнить манёвр. И через два дня спутник сгорел в атмосфере. Этот небольшой брак в программе бортового компьютера привёл к потере дорогостоящего аппарата и лишил СССР шанса обогнать американский «Маринер-9» в выходе на орбиту Марса.
На ошибках учатся. Но через 17 лет аппарат «Фобос-1», изучающий Марс и его спутник, трагически развернул солнечные батареи к Солнцу и «умер». С Земли была отправлена команда, в которой случайно была пропущена буква «В». Бортовой компьютер её не понял и решил отключить систему ориентации.
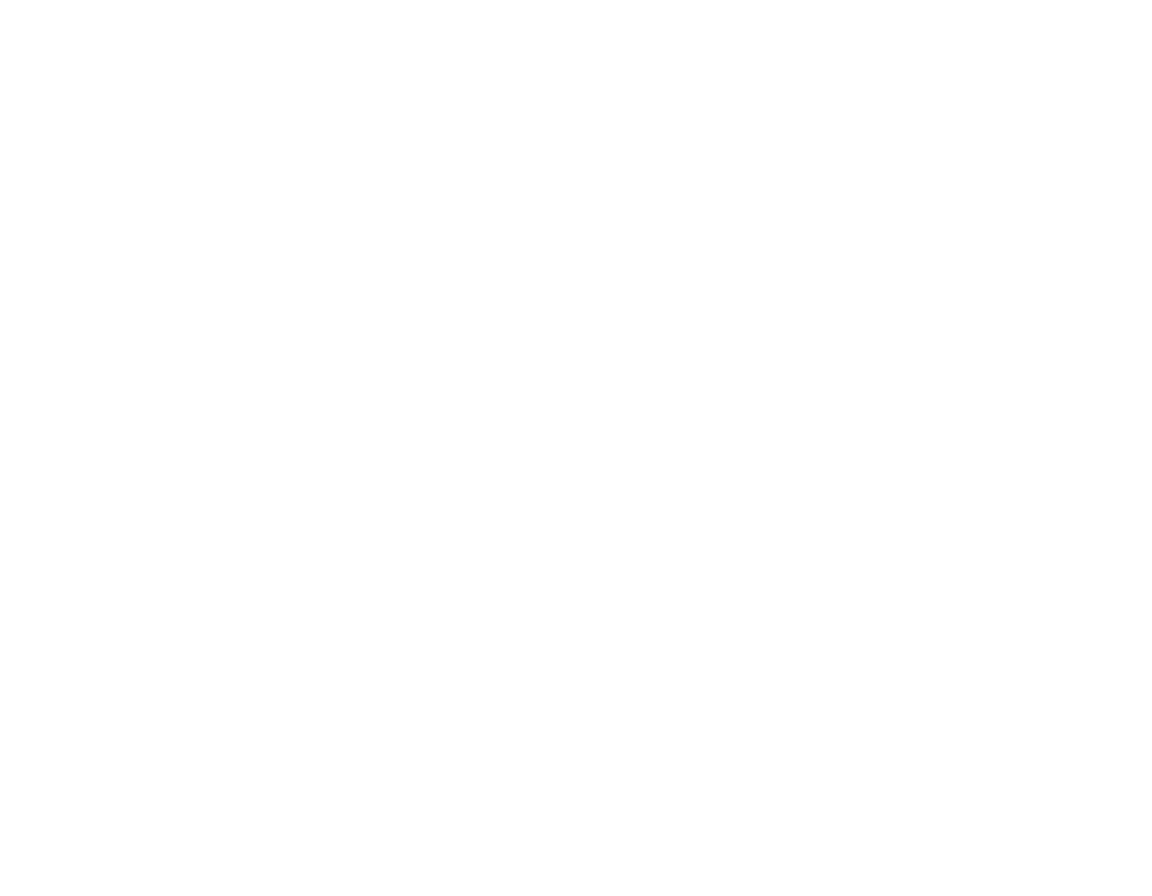
Хочется пофантазировать — что было бы, если этих ошибок не было? Что было бы, если бы государства не сталкивались с тем, что очередной запуск принёс многомиллиардные убытки, а ракета взорвалась или улетела не туда? Может, космическая гонка не закончилась бы, а мы бы летали в отпуск на Марс.
Но реальность другая: люди летели к звёздам, чтобы доказать своё превосходство. Они торопились, экономили, ругались ради победы. Но космос каждый раз с холодным расчётом напоминал им об их уязвимости.