НИКИТА ГЛОБА, ПОЛИНА ТРУШКОВА
Языковой ̶д̶р̶а̶к̶ брак
Иногда язык неожиданно выходит из-под контроля - будь то опечатка, неверный перевод или случайное искажение привычной нормы. На первый взгляд такие сбои кажутся незначительными техническими недочётами.
Однако история печати показывает: одно ошибочное слово способно изменить смысл текста, спровоцировать общественный резонанс и даже повлиять на политические процессы.
Этот текст объединяет несколько примеров того, как случайная ̶б̶у̶к̶а̶ буква - выпавшая, перепутанная или переведённая слишком буквально - меняла судьбу текста и его авторов.
Однако история печати показывает: одно ошибочное слово способно изменить смысл текста, спровоцировать общественный резонанс и даже повлиять на политические процессы.
Этот текст объединяет несколько примеров того, как случайная ̶б̶у̶к̶а̶ буква - выпавшая, перепутанная или переведённая слишком буквально - меняла судьбу текста и его авторов.
Кто-кто простите?
Опечатка «Сралин» стала известным советским анекдотом и обросла мифами. Якобы в 1930-х главного редактора одной махачкалинской газеты без суда и следствия расстреляли сразу, как газета вышла в печать. По какой статье и вообще почему — не ясно.
Эта ошибка стала легендарной. Скорее всего, именно на неё появилась аллюзия в фильме Тарковского. В «Зеркале» мать героя, которая работала в типографии, в ужасе ищет какую-то страшную ошибку. В следующем кадре на миг появляется плакат со Сталиным.
Но чудом была найдена статья-воспоминание бывшего редактора «Биробиджанской звезды». Она была опубликована в 1953 году в американской прессе, а автор её — Гершель Вейнраух (Григорий Винокур).
Он рассказывает, что в один из дней из набора выпала гранка «т». Получилось бы «Салин». На это он указал сотруднику и собрался идти домой. Тут к нему в кабинет ворвался перепуганный коллега с номером, в котором и был напечатан «Сралин». Все «оскорбительные страницы» были ими уничтожены.
Как писал Гершель Вейнраух, тогда «был период чистки еврейских писателей», и если бы об этом инциденте кто-то узнал, его бы обязательно расстреляли.
Это один из первых источников истории опечатки, но, скорее всего, Вейнраух эту историю сам придумал или вписал своё имя, чтобы вписать её в контекст гонений на евреев.
Другая байка, которую выдают за правду — про осла. Как-то в Советский Союз приехал польский посол, после чего «Известия» выпустили заметку с опечаткой «Товарищ Сталин принял польского осла». Но добродушный товарищ Сталин только рассмеялся и решил ничего с тиражом не делать — так ему не понравился посол Польши.
Эта ошибка стала легендарной. Скорее всего, именно на неё появилась аллюзия в фильме Тарковского. В «Зеркале» мать героя, которая работала в типографии, в ужасе ищет какую-то страшную ошибку. В следующем кадре на миг появляется плакат со Сталиным.
Но чудом была найдена статья-воспоминание бывшего редактора «Биробиджанской звезды». Она была опубликована в 1953 году в американской прессе, а автор её — Гершель Вейнраух (Григорий Винокур).
Он рассказывает, что в один из дней из набора выпала гранка «т». Получилось бы «Салин». На это он указал сотруднику и собрался идти домой. Тут к нему в кабинет ворвался перепуганный коллега с номером, в котором и был напечатан «Сралин». Все «оскорбительные страницы» были ими уничтожены.
Как писал Гершель Вейнраух, тогда «был период чистки еврейских писателей», и если бы об этом инциденте кто-то узнал, его бы обязательно расстреляли.
Это один из первых источников истории опечатки, но, скорее всего, Вейнраух эту историю сам придумал или вписал своё имя, чтобы вписать её в контекст гонений на евреев.
Другая байка, которую выдают за правду — про осла. Как-то в Советский Союз приехал польский посол, после чего «Известия» выпустили заметку с опечаткой «Товарищ Сталин принял польского осла». Но добродушный товарищ Сталин только рассмеялся и решил ничего с тиражом не делать — так ему не понравился посол Польши.
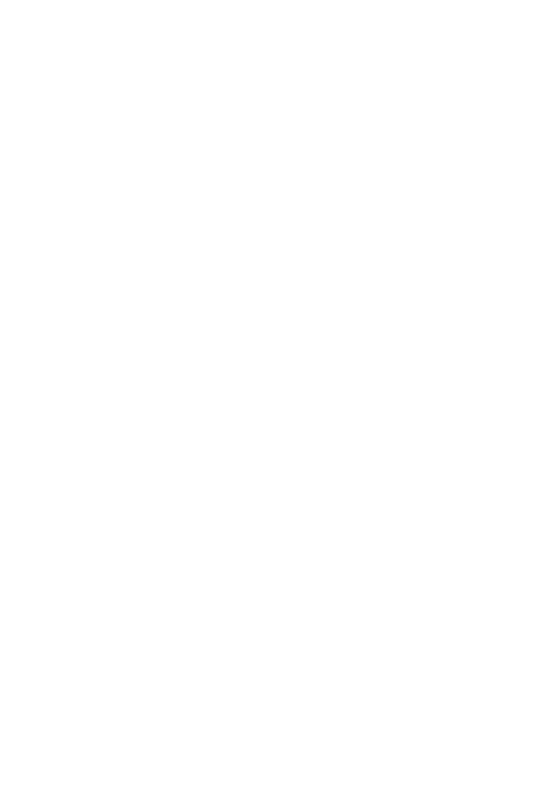
Солат
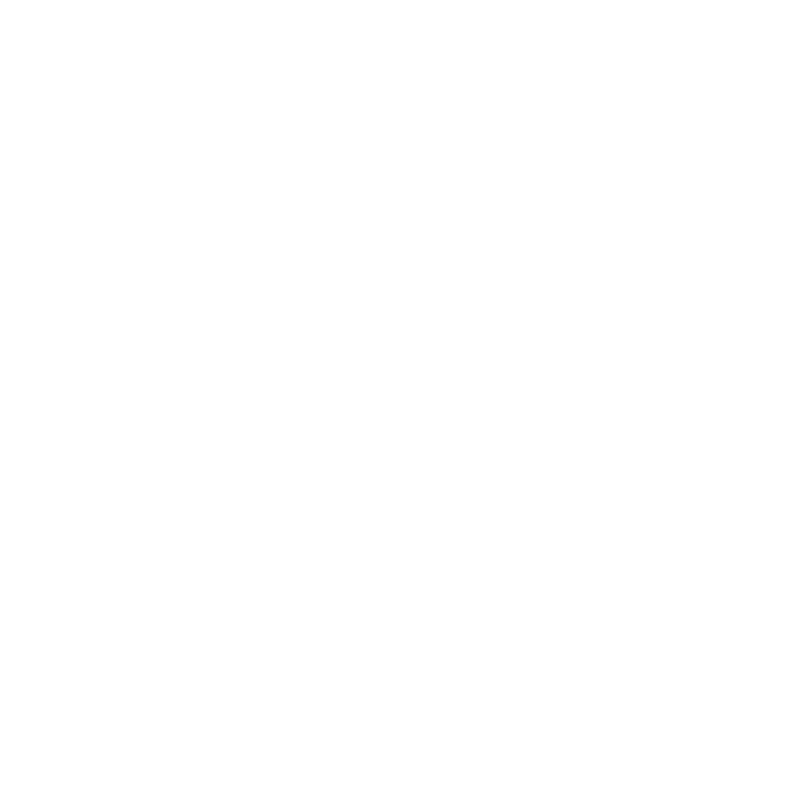
А какой-то советский журналист написал «могила неизвестного солата». Расстреляли его или нет — статьи загадочно опускают. Было и было, кто перепроверит? Только вот журналист этот существует, и имя его — Сергей Довлатов. Александр Генис рассказывает так: «И мать, и жена Довлатова служили корректорами. Неудивительно, что он был одержим опечатками. В его семье все постоянно сражались с ошибками. Не делалось скидок и на устную речь». Особое место в жизни Довлатова занимали истории про смешные опечатки: про книгу Алешковского, где было написано «дорогим дрязьям», про то, как у мемуаров Глезера было название «Чоловек с двоиным дном». Но стало не смешно, когда дело дошло до него самого. На сорокалетие Бродского Довлатов решил опубликовать его стих в «Новом американце». С ним Сергей сидел «чуть ли не всю ночь», а на утро оказалось, что в юбилейном номере пропущена одна буква. И она была в юбилейном стихотворении. Довлатов понёс номер с «солатом» Бродскому, а тот только хмыкнул и сказал, что так, может, и лучше.
Позже в сборнике рассказов «Наши» Довлатов напишет:
Позже в сборнике рассказов «Наши» Довлатов напишет:
«Есть в газетном деле одна закономерность. Стоит пропустить единственную букву — и конец. Обязательно выйдет либо непристойность, либо — хуже того — антисоветчина. (А бывает и то и другое вместе.) Взять, к примеру, заголовок: «Приказ главнокомандующего». «Главнокомандующий» — такое длинное слово, шестнадцать букв. Надо же пропустить именно букву «л». А так чаще всего и бывает. Или: «Коммунисты осуждают решения партии» (вместо — «обсуждают»). Или: «Большевистская каторга» (вместо — «когорта»). Как известно, в наших газетах только опечатки правдивы».
Мир и Мiр
А ещё, говорят, что Лев Толстой допустил опечатку в названии своего романа «Война и мир». «По вине полуграмотного корректора вместо «мир» там значилось «мiр»». Первое — состояние покоя, второе — община. И поэтому до сих пор в школах учителя доказывают детям, что этот роман про войну и общество. Как такая ошибка вообще возможна? Она невозможна, в этом и ответ.
Миф стал популярен после телепередачи «Что? Где? Когда?» в 1982 году, где сотрудник ленинградской библиотеки спрашивал, почему в заглавии дореволюционного издания «Войны и мира» стоит буква i. Этот факт разошелся по книгам, а в 2000 году был закреплен в массовом сознании после юбилейной игры «Что? Где? Когда?». Там его повторили с тем же самым комментарием.
Только дело в том, что сотрудник ленинградской библиотеки, видимо, никогда не видел дореволюционное издание. Потому что на нём красуется заглавие «Война и мир».
Миф стал популярен после телепередачи «Что? Где? Когда?» в 1982 году, где сотрудник ленинградской библиотеки спрашивал, почему в заглавии дореволюционного издания «Войны и мира» стоит буква i. Этот факт разошелся по книгам, а в 2000 году был закреплен в массовом сознании после юбилейной игры «Что? Где? Когда?». Там его повторили с тем же самым комментарием.
Только дело в том, что сотрудник ленинградской библиотеки, видимо, никогда не видел дореволюционное издание. Потому что на нём красуется заглавие «Война и мир».
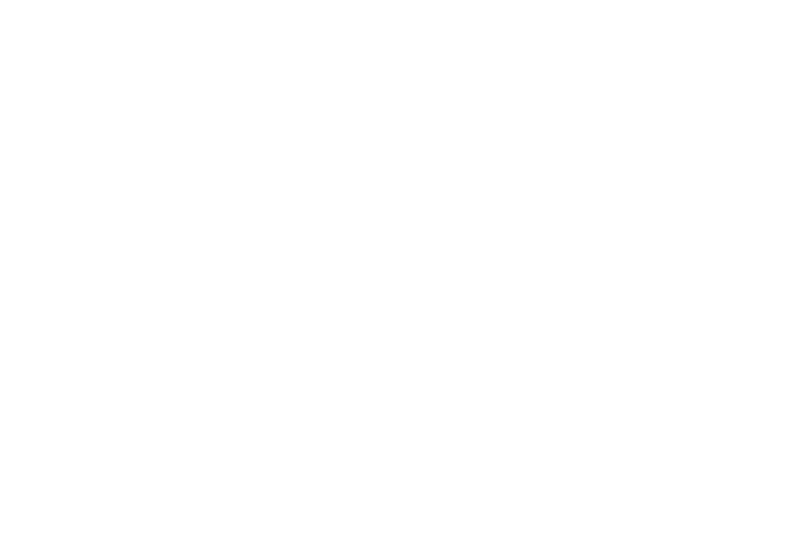
«Мы вас похороним»: как один перевод изменил ход истории

Вечер 18 ноября 1956 года. В польском посольстве в Москве гудел приём: дипломаты, послы, гости из-за рубежа, разговоры переходили с делового тона на лёгкий светский флирт. И вдруг Н. С. Хрущёв произнёс фразу, которая через мгновение разлетелась по западной прессе как взрыв. В переводе на английский она прозвучала так: «We will bury you» — «Мы вас похороним». Для иностранных гостей это прозвучало как прямая, ничем не прикрытая угроза. Некоторые тут же поднялись и покинули зал.
Но если присмотреться внимательнее, ситуация выглядит куда сложнее. В оригинале Хрущёв говорил не о физическом уничтожении людей, а метафорически: «история на нашей стороне, мы доживём до того, как увидим, как капитализм сдаёт позиции». В русском языке фраза несла привычный риторический смысл — уверенность в победе своей идеологии, а не прямую угрозу. Литературный перевод на английский оказался слишком буквальным, лишив слова культурного контекста и оттенков. Возможно, более точным вариантом было бы: «мы переживём вас» или «история будет на нашей стороне».
Реакция Запада была мгновенной и непредсказуемой. Газеты заголовками кричали о «советской угрозе», аналитические центры обсуждали дипломатический шок, а разведки фиксировали каждое слово. Один неверно переданный оборот речи усилил взаимную подозрительность и во многом определил, каким увидят СССР в глазах западного мира — не как страну, говорящую о своей исторической миссии, а как агрессора.
Этот случай — наглядное напоминание для журналистов и переводчиков: слова в медиапространстве не просто передают информацию, они создают реальность. Неправильный перевод способен обострить кризис, превратить дипломатическую риторику в политический скандал и оставить след в истории. Ошибки в дипломатическом языке могут стоить гораздо дороже, чем простая опечатка в газете — они способны изменить ход международных отношений.
Но если присмотреться внимательнее, ситуация выглядит куда сложнее. В оригинале Хрущёв говорил не о физическом уничтожении людей, а метафорически: «история на нашей стороне, мы доживём до того, как увидим, как капитализм сдаёт позиции». В русском языке фраза несла привычный риторический смысл — уверенность в победе своей идеологии, а не прямую угрозу. Литературный перевод на английский оказался слишком буквальным, лишив слова культурного контекста и оттенков. Возможно, более точным вариантом было бы: «мы переживём вас» или «история будет на нашей стороне».
Реакция Запада была мгновенной и непредсказуемой. Газеты заголовками кричали о «советской угрозе», аналитические центры обсуждали дипломатический шок, а разведки фиксировали каждое слово. Один неверно переданный оборот речи усилил взаимную подозрительность и во многом определил, каким увидят СССР в глазах западного мира — не как страну, говорящую о своей исторической миссии, а как агрессора.
Этот случай — наглядное напоминание для журналистов и переводчиков: слова в медиапространстве не просто передают информацию, они создают реальность. Неправильный перевод способен обострить кризис, превратить дипломатическую риторику в политический скандал и оставить след в истории. Ошибки в дипломатическом языке могут стоить гораздо дороже, чем простая опечатка в газете — они способны изменить ход международных отношений.
Не прелюбодействуй… или всё наоборот?
Когда речь заходит о священных текстах, печатники по определению ходят по лезвию бритвы. Иной раз одно неверное движение пальца превращает обычную типографскую ошибку в международный скандал. Так случилось с лондонской Библией 1632 года.
Впервые публикуя текст, издатели вложили в него все мастерство и аккуратность своего времени: страницы ровные, шрифты чёткие, иллюстрации — настоящие произведения искусства. Казалось бы, идеальное издание… до того момента, пока внимательный глаз не заметил пропавшую частицу «не» в одной из десяти заповедей. В строке «Не прелюбодействуй!» слово «не» исчезло. И вместо привычного запрета текст превратился в прямой призыв.
Ситуация быстро вышла за пределы издательской комнаты. Пять лет печатнику приходилось доказывать лондонскому издателю, что богохульство в текст проникло случайно, а не было сознательным актом кощунства. Суд закончился крупным по тем временам штрафом — 2000 фунтов.
Сегодня эта Библия получила прозвище Adulterous Bible — «Библия разврата». Её тираж был небольшой, и в мире сохранилось лишь несколько экземпляров. Недавно один из них ушёл с аукциона за 60 000 фунтов — символ того, как маленькая опечатка может превратиться в культурный и финансовый артефакт.
Эта история — напоминание, что даже самый скрупулёзный труд печатника или журналиста может быть разрушен одной невнимательной буквой. И иногда последствия оказываются куда более значительными, чем простая грамматическая ошибка.
Впервые публикуя текст, издатели вложили в него все мастерство и аккуратность своего времени: страницы ровные, шрифты чёткие, иллюстрации — настоящие произведения искусства. Казалось бы, идеальное издание… до того момента, пока внимательный глаз не заметил пропавшую частицу «не» в одной из десяти заповедей. В строке «Не прелюбодействуй!» слово «не» исчезло. И вместо привычного запрета текст превратился в прямой призыв.
Ситуация быстро вышла за пределы издательской комнаты. Пять лет печатнику приходилось доказывать лондонскому издателю, что богохульство в текст проникло случайно, а не было сознательным актом кощунства. Суд закончился крупным по тем временам штрафом — 2000 фунтов.
Сегодня эта Библия получила прозвище Adulterous Bible — «Библия разврата». Её тираж был небольшой, и в мире сохранилось лишь несколько экземпляров. Недавно один из них ушёл с аукциона за 60 000 фунтов — символ того, как маленькая опечатка может превратиться в культурный и финансовый артефакт.
Эта история — напоминание, что даже самый скрупулёзный труд печатника или журналиста может быть разрушен одной невнимательной буквой. И иногда последствия оказываются куда более значительными, чем простая грамматическая ошибка.
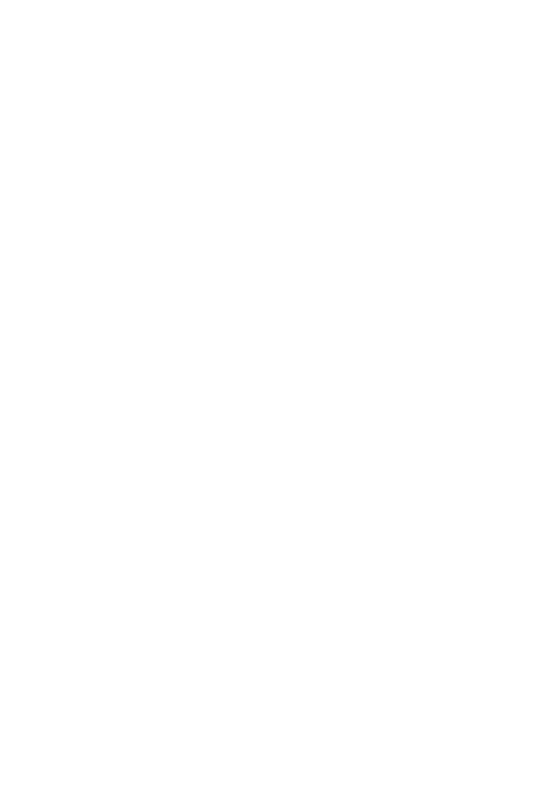
Когда одна буква может стоить репутации — и судебного разбирательства
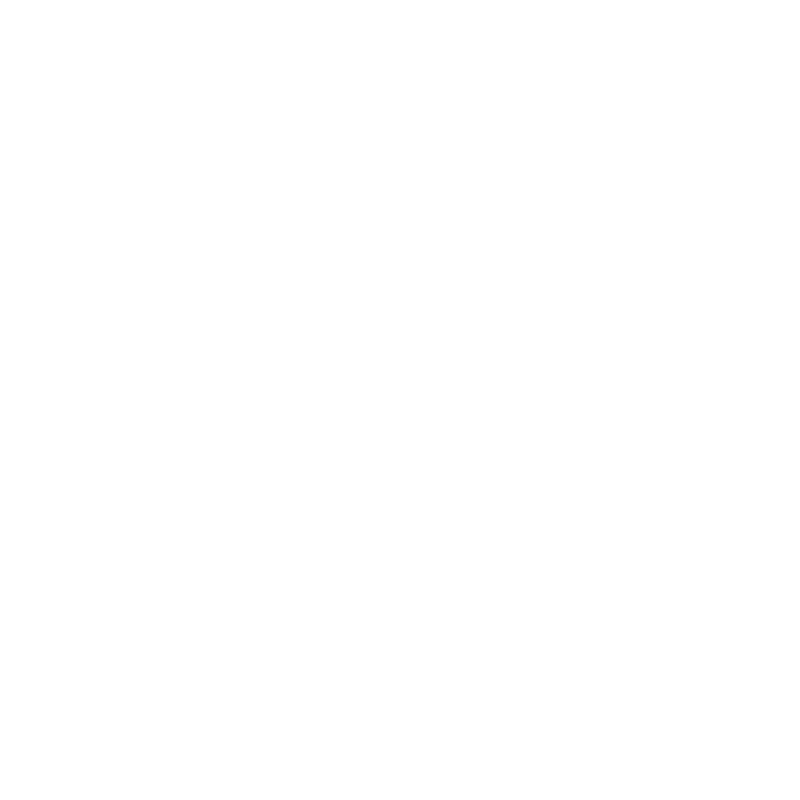
Конечно, самые страшные последствия для невнимательных редакторов и издателей наступали, когда опечатка касалась лидеров государства. В начале XX века в Киеве это стало наглядной иллюстрацией того, как одна буква способна превратить аккуратно написанную заметку в политический скандал.
Редактор газеты «Киевская мысль» оказался под судом за заглавие заметки о «Пребывании вдовствующей императрицы Марии Федоровны в Финляндии». Казалось бы, ничего особенного — обычная информационная заметка о поездке императрицы. Но в первом слове буква «р» случайно превратилась в «о», и заголовок приобрёл крайне неприличный смысл. Ошибка из разряда «нарочно не придумаешь» мгновенно стала поводом для судебного разбирательства.
Дело было настолько щекотливым, что журналистов сознательно старались держать подальше: судебное разбирательство не освещалось в прессе, а подробности постарались поскорее замять. Репутация редактора и газеты висела на волоске — и всё из-за одной невнимательной буквы, которая, если бы осталась незамеченной, могла бы стать лишь небольшой типографской досадой.
Редактор газеты «Киевская мысль» оказался под судом за заглавие заметки о «Пребывании вдовствующей императрицы Марии Федоровны в Финляндии». Казалось бы, ничего особенного — обычная информационная заметка о поездке императрицы. Но в первом слове буква «р» случайно превратилась в «о», и заголовок приобрёл крайне неприличный смысл. Ошибка из разряда «нарочно не придумаешь» мгновенно стала поводом для судебного разбирательства.
Дело было настолько щекотливым, что журналистов сознательно старались держать подальше: судебное разбирательство не освещалось в прессе, а подробности постарались поскорее замять. Репутация редактора и газеты висела на волоске — и всё из-за одной невнимательной буквы, которая, если бы осталась незамеченной, могла бы стать лишь небольшой типографской досадой.
Опечатки живут куда интереснее, чем кажется на первый взгляд. Они то случайно превращают великое произведение в лингвистическую загадку, то становятся основой городских легенд, то вмешиваются в дипломатические отношения, как будто язык сам стремится сыграть свою роль в истории.
В каждом таком случае простая техническая ошибка неожиданно показывает что-то важное: как устроена редакционная кухня, как действует цензура, как общество реагирует на отклонения от нормы. И становится понятно, что «языковой брак» — это не просто ошибка, а маленькая трещина, через которую видно эпоху.
В каждом таком случае простая техническая ошибка неожиданно показывает что-то важное: как устроена редакционная кухня, как действует цензура, как общество реагирует на отклонения от нормы. И становится понятно, что «языковой брак» — это не просто ошибка, а маленькая трещина, через которую видно эпоху.