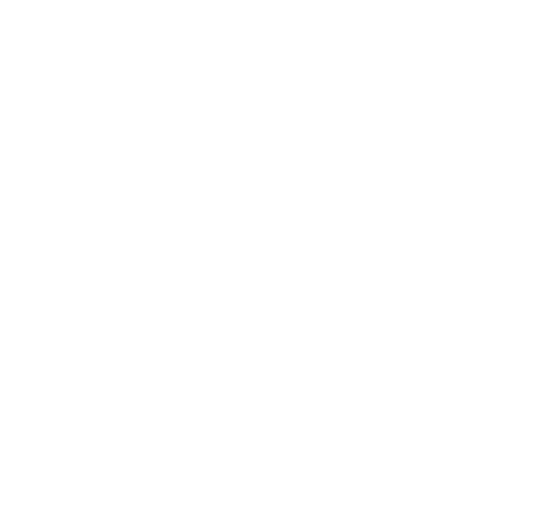Полина Трушкова
Насильственный сон
краткая история наркоза в интервью
с Александром Половицким
с Александром Половицким
| «Если сон облегчает страдания, болезнь не смертельна»,— сказал древнегреческий врач Гиппократ. Мы сейчас понимаем эту фразу почти буквально и не боимся операций — всё равно будет наркоз. Но раньше даже небольшое хирургическое вмешательство становилось самым тяжелым событием в жизни. Приходилось терпеть. Всё изменилось, когда людей научились искусственно вводить в сон. О судьбе наркоза поговорили с историком медицины Александром Половицким. |
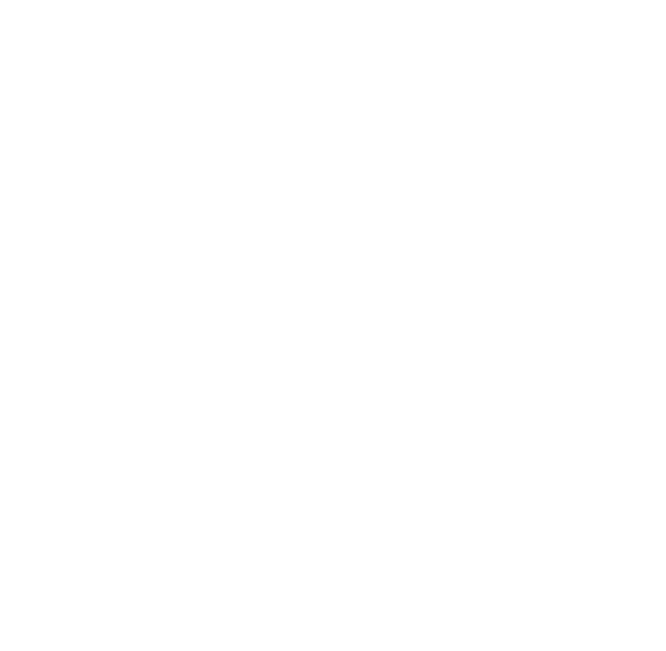
https://clck.ru/3Q4N4t
— Давайте начнем с основного. Что такое наркоз?
— Если говорить строго, наркоз — это синоним общей анестезии. То есть такого обезболивания, при котором человек теряет сознание. Хотя в быту «местным наркозом» могут называть и местную анестезию, но корректно разделять: есть местная анестезия, а есть общая, то есть наркоз.
— Получается, когда применяют наркоз, человек засыпает?
— Скажем так: да, но нет. Есть такое историческое понятие — «эфирный рауш». Это дозировка эфира, при которой человек находится в полусознании, но уже в состоянии аналгезии, то есть не чувствует боли.
— А бывает, что человек под наркозом чувствует боль?
— Естественно, нет, боли он не чувствует. Но, например, во время Великой Отечественной войны заметили, что при операциях на брюшной полости под общим наркозом дополнительное обезболивание брыжейки (структуры, к которой крепится кишечник) снижает риск шока. То есть, само раздражение нервов всё равно происходит, и иногда нужно «выключить» их дополнительно.
— Как же работала хирургия до наркоза?
— Быстро. Максимально быстро. Если пациент терял сознание от болевого шока, его пытались привести в чувство, например, обливая водой. Пациент должен был быть в сознании — чтобы было ясно, что хирург оперирует не труп. Были, конечно, методики, уменьшающие боль, но все они были сложными, ненадежными и смертельно опасными. Иногда сочетались все три фактора.
— Если говорить строго, наркоз — это синоним общей анестезии. То есть такого обезболивания, при котором человек теряет сознание. Хотя в быту «местным наркозом» могут называть и местную анестезию, но корректно разделять: есть местная анестезия, а есть общая, то есть наркоз.
— Получается, когда применяют наркоз, человек засыпает?
— Скажем так: да, но нет. Есть такое историческое понятие — «эфирный рауш». Это дозировка эфира, при которой человек находится в полусознании, но уже в состоянии аналгезии, то есть не чувствует боли.
— А бывает, что человек под наркозом чувствует боль?
— Естественно, нет, боли он не чувствует. Но, например, во время Великой Отечественной войны заметили, что при операциях на брюшной полости под общим наркозом дополнительное обезболивание брыжейки (структуры, к которой крепится кишечник) снижает риск шока. То есть, само раздражение нервов всё равно происходит, и иногда нужно «выключить» их дополнительно.
— Как же работала хирургия до наркоза?
— Быстро. Максимально быстро. Если пациент терял сознание от болевого шока, его пытались привести в чувство, например, обливая водой. Пациент должен был быть в сознании — чтобы было ясно, что хирург оперирует не труп. Были, конечно, методики, уменьшающие боль, но все они были сложными, ненадежными и смертельно опасными. Иногда сочетались все три фактора.
— Как же работала хирургия до наркоза?
— Быстро. Максимально быстро. Если пациент терял сознание от болевого шока, его пытались привести в чувство, например, обливая водой. Пациент должен был быть в сознании — чтобы было ясно, что хирург оперирует не труп. Были, конечно, методики, уменьшающие боль, но все они были сложными, ненадежными и смертельно опасными. Иногда сочетались все три фактора.
— Какие, например?
— Прижатие сонных артерий до потери сознания. Человек в полусознании если и чувствовал боль, то не дёргался. Но здесь была другая опасность — можно было передавить артерии и вызвать необратимые повреждения мозга. Использовали растительные и химические вещества: алкоголь, опиаты, скополамин. В общем, всё более-менее ядовитое, что было под рукой.
— Быстро. Максимально быстро. Если пациент терял сознание от болевого шока, его пытались привести в чувство, например, обливая водой. Пациент должен был быть в сознании — чтобы было ясно, что хирург оперирует не труп. Были, конечно, методики, уменьшающие боль, но все они были сложными, ненадежными и смертельно опасными. Иногда сочетались все три фактора.
— Какие, например?
— Прижатие сонных артерий до потери сознания. Человек в полусознании если и чувствовал боль, то не дёргался. Но здесь была другая опасность — можно было передавить артерии и вызвать необратимые повреждения мозга. Использовали растительные и химические вещества: алкоголь, опиаты, скополамин. В общем, всё более-менее ядовитое, что было под рукой.
Что такое алкоголь – нам понятно. Но что за два других химических вещества?
Опиаты — наркотические алкалоиды, которые получали из опиумного мака. Они вызывали оглушение и эйфорию, но дозировка, необходимая для полного обезболивания, часто была близка к смертельной. Скополамин — органическое химическое соединение, которое получали из растений семейства паслёновых: дурмана и белены. Он вызывал спутанность сознания и амнезию, но был крайне непредсказуем в действии и мог привести к тяжелому отравлению или летальному исходу.
Как показала многовековая практика, полного обезболивания на живом пациенте получить не удавалось. Знаменитый французский хирург Альфред Вельпо в XIX веке говорил: «Устранение боли при операциях — химера, о которой непозволительно даже мечтать».
— Правда, что пациентов во время операции приходилось держать?
— Естественно. Ассистенты хирурга как раз и должны были удерживать пациента. Более того, в укладку операционного стола во время Великой Отечественной войны входили ремни. В первую очередь — на случай фазы возбуждения при эфирном наркозе, но, тем не менее, практика была.
— Правда, что пациентов во время операции приходилось держать?
— Естественно. Ассистенты хирурга как раз и должны были удерживать пациента. Более того, в укладку операционного стола во время Великой Отечественной войны входили ремни. В первую очередь — на случай фазы возбуждения при эфирном наркозе, но, тем не менее, практика была.
Прорыв XIX века: эфир, хлороформ и веселящий газ
— Когда же появился наркоз в современном понимании?
— Эфир был открыт ещё в XII веке, но был сложен в производстве. Хлороформ открыли в 1830-х как растворитель. XIX век — это век бешеного всплеска химии.
В 1845–1846 годах почти одновременно были представлены три вещества: хлороформ, эфир и закись азота — веселящий газ. Это древняя тройка ингаляционных анестетиков. Все эти вещества были известны 10–50 лет и использовались для разных целей. Тот же веселящий газ применяли как развлекательное средство, альтернативу алкоголю. Просто так сложилось, что несколько человек практически одновременно открыли их обезболивающий эффект.
— Эфир был открыт ещё в XII веке, но был сложен в производстве. Хлороформ открыли в 1830-х как растворитель. XIX век — это век бешеного всплеска химии.
В 1845–1846 годах почти одновременно были представлены три вещества: хлороформ, эфир и закись азота — веселящий газ. Это древняя тройка ингаляционных анестетиков. Все эти вещества были известны 10–50 лет и использовались для разных целей. Тот же веселящий газ применяли как развлекательное средство, альтернативу алкоголю. Просто так сложилось, что несколько человек практически одновременно открыли их обезболивающий эффект.
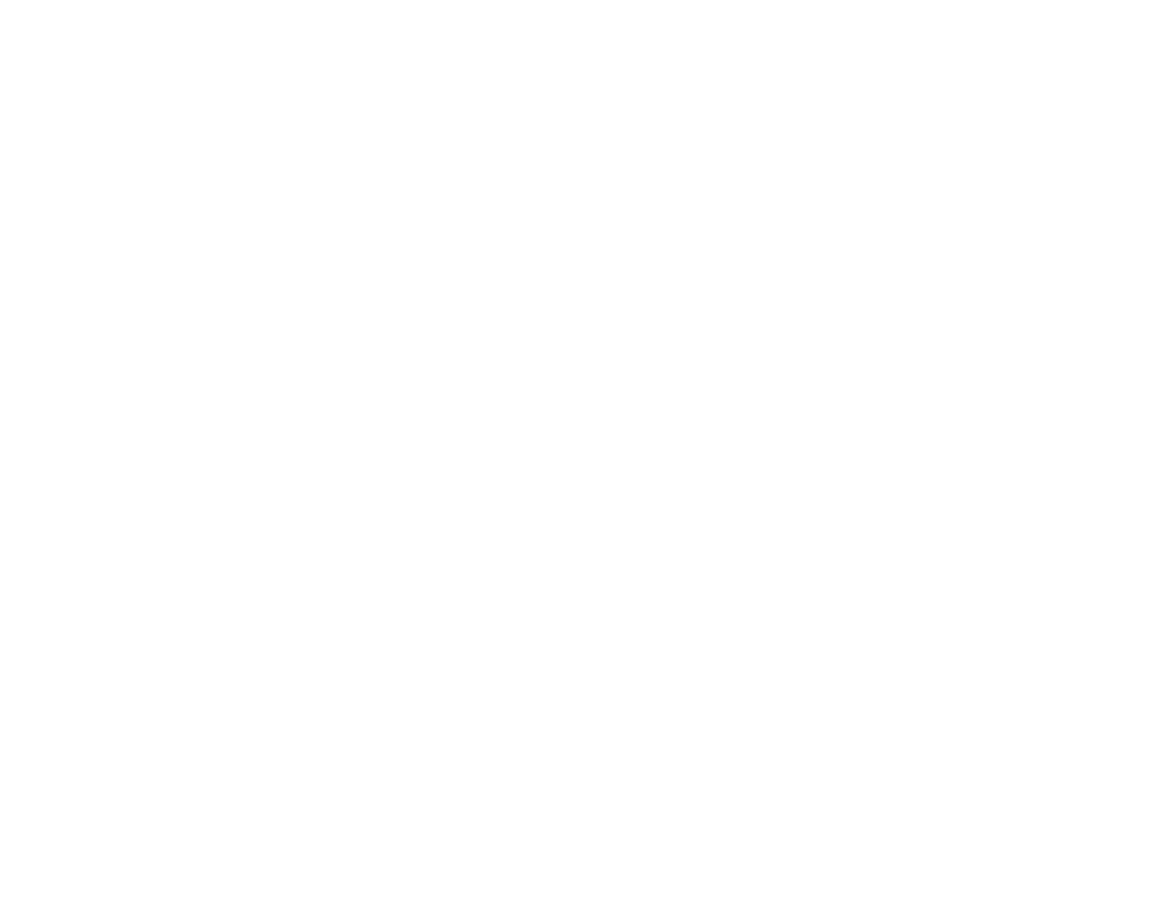
Вариант применения веселящего газа до употребления его в наркозах.
https://clck.ru/3Q4Mxx
Эфир это летучее, сильно пахнущее соединение, обладающее наркотическим действием.
Он появился ещё в IX веке, после этого он был «переоткрыт» ещё несколько раз — Валерием Кордусом, Робертом Бойлем и Исааком Ньютоном. А хлороформ это соединение метана с хлором. Впервые он был получен в 1831 году, им растворяли каучук и краску. В 1847 он впервые был применён во время операции. Но настоящее распространение в медицине хлороформ получил благодаря шотландскому акушеру Джеймсу Симпсону. Он начал использовать хлороформ при родах, и это вызвало бурю негодования. Как так? Духовенство заявило, что это богохульство, ведь в Библии сказано: «в болезни будешь рождать детей» (Бытие 3:16). Споры разрешились мгновенно, когда в 1853 году под хлороформом родила сама королева Виктория.
— Как быстро это открытие дошло до России?
— Очень быстро. Правда, какое-то время хирурги оппонировали: говорили, что наркоз опаснее самой операции, что раны под наркозом хуже заживают. Было и традиционное нытьё: «Это убьёт искусство хирурга! Не нужно будет оперировать быстро, и каждый идиот сможет возиться с пациентом сколько угодно».
Но многие хирурги идею поддержали. Уже в 1847 году русский врач Фёдор Иноземцев первым в России провёл операцию под эфирным наркозом. Вслед за ним такую операцию провёл Николай Пирогов.
Пирогов подошёл к делу с истинно научной методичностью. Прежде чем применять эфир на пациентах, он провёл несколько десятков опытов на здоровых добровольцах, в том числе и на самом себе. Он убедился, что эфирный наркоз безопасен.
Но главная его заслуга в другом. В 1847 году, вторым в мире, но первым, кто это детально задокументировал, он провёл наркоз в полевых условиях — на Кавказе, при осаде аула Салты. Он провёл более 200 таких операций, издал книгу и тем самым доказал, что наркоз возможен не только в стерильной клинике, но и на передовой.
— Очень быстро. Правда, какое-то время хирурги оппонировали: говорили, что наркоз опаснее самой операции, что раны под наркозом хуже заживают. Было и традиционное нытьё: «Это убьёт искусство хирурга! Не нужно будет оперировать быстро, и каждый идиот сможет возиться с пациентом сколько угодно».
Но многие хирурги идею поддержали. Уже в 1847 году русский врач Фёдор Иноземцев первым в России провёл операцию под эфирным наркозом. Вслед за ним такую операцию провёл Николай Пирогов.
Пирогов подошёл к делу с истинно научной методичностью. Прежде чем применять эфир на пациентах, он провёл несколько десятков опытов на здоровых добровольцах, в том числе и на самом себе. Он убедился, что эфирный наркоз безопасен.
Но главная его заслуга в другом. В 1847 году, вторым в мире, но первым, кто это детально задокументировал, он провёл наркоз в полевых условиях — на Кавказе, при осаде аула Салты. Он провёл более 200 таких операций, издал книгу и тем самым доказал, что наркоз возможен не только в стерильной клинике, но и на передовой.
- «Николай Пирогов за операцией». Картина из музея-усадьбы Пирогова
- Николай Пирогов 1870 год. Фото П.С. Жуковаhttps://clck.ru/3Q4MXf
- Памятник Пирогову в Москвеhttps://vera-eskom.ru/2024/02/nikolay-pirogov-2/
— И как оценили его подвиг на родине?
— Когда он явился в Петербург с докладом, министр выслушал его рассеянно. А на следующий день Пирогова вызвали во дворец, где дежурный генерал зачитал ему выговор за неподобающую форму одежды — он явился на доклад не в том сюртуке. Сам Пирогов потом писал: «со мной сделался истерический припадок с корчами». Его можно понять.
— Когда он явился в Петербург с докладом, министр выслушал его рассеянно. А на следующий день Пирогова вызвали во дворец, где дежурный генерал зачитал ему выговор за неподобающую форму одежды — он явился на доклад не в том сюртуке. Сам Пирогов потом писал: «со мной сделался истерический припадок с корчами». Его можно понять.
Вторая мировая война и наши дни
— Когда появилась профессия анестезиолога?
— Специальность «анестезиолог» оформилась в Англии и США прямо перед Второй мировой. До этого считалось, что «наркотизатор» — это роль при операции, которую может выполнить любой врач или даже медсестра. Это как наше с вами интервью: сейчас я — эксперт, а вы — журналист, но мы можем поменяться ролями, а наши профессии останутся прежними.
Перед войной все осознали, что для дачи наркоза нужно специальное обучение. Проблема кадров стояла так остро, что во Франции даже была идея обучать наркозу полковых священников — все равно ему во время боя делать нечего.
— Специальность «анестезиолог» оформилась в Англии и США прямо перед Второй мировой. До этого считалось, что «наркотизатор» — это роль при операции, которую может выполнить любой врач или даже медсестра. Это как наше с вами интервью: сейчас я — эксперт, а вы — журналист, но мы можем поменяться ролями, а наши профессии останутся прежними.
Перед войной все осознали, что для дачи наркоза нужно специальное обучение. Проблема кадров стояла так остро, что во Франции даже была идея обучать наркозу полковых священников — все равно ему во время боя делать нечего.
В России анестезиология как отдельная специальность оформилась гораздо позже, чем на Западе. До 1950-х годов роль «наркотизатора» обычно выполнял хирург или ассистент. Поворотным моментом стало открытие в 1968 году первой в стране самостоятельной кафедры анестезиологии и реанимации в 1-м Московском медицинском институте имени Сеченова. Её основали по инициативе министра здравоохранения Бориса Васильевича Петровского, а возглавила кафедру профессор Ольга Даниловна Колютская — одна из первых женщин-анестезиологов СССР.
— Что было дальше?
— Появился интубационный наркоз. Работа с маской не всегда удобна: она может плохо прилегать, исключает операции на лице, есть риск западения языка. Гораздо эффективнее ввести трубку прямо в трахею. Это позволяет контролировать дыхание и вводить анестетики точно в лёгкие.
Широкое распространение интубационный наркоз получил уже после Второй мировой войны. Ларингоскоп — прибор для введения трубки — был сложным устройством, и в полевых условиях до него «не доходили руки».
— Чем современный наркоз принципиально отличается от того, что было раньше?
— Ранний наркоз был, как правило, однокомпонентным. То есть одним веществом добивались трёх эффектов: отключения сознания, обезболивания и расслабления мышц. Это означало, что для достижения, скажем, мышечной релаксации, пациент получал передозировку по двум другим компонентам.
Современный наркоз — многокомпонентный. Разные препараты, подаваемые независимо друг от друга (и внутривенно, и ингаляционно), отвечают за сон, обезболивание и расслабление. Это позволяет точно дозировать каждый компонент и минимизировать нагрузку на организм. Современные препараты также дают эффект амнезии — пациент не помнит ни самой операции, ни выхода из наркоза.
Хлороформ, например, давал около 1,1% смертей непосредственно от наркоза или в течение трёх дней после него. Он сильный яд, вызывающий поражение сердца и молниеносное жировое перерождение печени. Эфир был безопаснее, но категорически не подходил пациентам с болезнями лёгких.
— В России была своя школа анестезиологии?
— В плане общей — мы скорее двигались за остальным миром. Но у нас была и есть огромная школа работы над местной анестезией. В конце XIX века русский ученый Василий Анреп открыл обезболивающие свойства кокаина. Позже Александр Вишневский разработал свою знаменитую методику местной анестезии — новокаиновые блокады. Что интересно, когда я читал его работы, я не мог понять, почему эти методики ушли в прошлое. А сейчас, в последние годы, я постоянно нахожу публикации о том, что «блокада по Вишневскому» с успехом применяется вновь. Вот такой неожиданный возврат.
— Появился интубационный наркоз. Работа с маской не всегда удобна: она может плохо прилегать, исключает операции на лице, есть риск западения языка. Гораздо эффективнее ввести трубку прямо в трахею. Это позволяет контролировать дыхание и вводить анестетики точно в лёгкие.
Широкое распространение интубационный наркоз получил уже после Второй мировой войны. Ларингоскоп — прибор для введения трубки — был сложным устройством, и в полевых условиях до него «не доходили руки».
— Чем современный наркоз принципиально отличается от того, что было раньше?
— Ранний наркоз был, как правило, однокомпонентным. То есть одним веществом добивались трёх эффектов: отключения сознания, обезболивания и расслабления мышц. Это означало, что для достижения, скажем, мышечной релаксации, пациент получал передозировку по двум другим компонентам.
Современный наркоз — многокомпонентный. Разные препараты, подаваемые независимо друг от друга (и внутривенно, и ингаляционно), отвечают за сон, обезболивание и расслабление. Это позволяет точно дозировать каждый компонент и минимизировать нагрузку на организм. Современные препараты также дают эффект амнезии — пациент не помнит ни самой операции, ни выхода из наркоза.
Хлороформ, например, давал около 1,1% смертей непосредственно от наркоза или в течение трёх дней после него. Он сильный яд, вызывающий поражение сердца и молниеносное жировое перерождение печени. Эфир был безопаснее, но категорически не подходил пациентам с болезнями лёгких.
— В России была своя школа анестезиологии?
— В плане общей — мы скорее двигались за остальным миром. Но у нас была и есть огромная школа работы над местной анестезией. В конце XIX века русский ученый Василий Анреп открыл обезболивающие свойства кокаина. Позже Александр Вишневский разработал свою знаменитую методику местной анестезии — новокаиновые блокады. Что интересно, когда я читал его работы, я не мог понять, почему эти методики ушли в прошлое. А сейчас, в последние годы, я постоянно нахожу публикации о том, что «блокада по Вишневскому» с успехом применяется вновь. Вот такой неожиданный возврат.
- Первая руководительница кафедры анестезиологии Ольга Даниловна Колютскаяhttps://clck.ru/3Q4MoW
- Интубационный наркозhttps://clck.ru/3Q4MsP
- Самооперация Леонида Рогозоваhttps://clck.ru/3Q4MfR
Один из самых известных эпизодов в истории местной анестезии — самооперация Леонида Рогозова
В 1961 году молодой врач-анестезиолог и хирург зимовал на антарктической станции «Новолазаревская». До конца зимовки оставалось несколько недель, когда у него появились симптомы острого аппендицита. Эвакуация и помощь извне были невозможны.
Рогозов принял решение оперировать самого себя. Он применил местную анестезию — ввёл раствор новокаина. В качестве ассистентов он привлёк метеоролога и механика: один держал зеркало, другой — освещал операционное поле настольной лампой. Хирург работал в полусидячем положении, ориентируясь по отражению в зеркале, периодически делая перерывы из-за головокружения и слабости. Операция длилась около двух часов. Через две недели Рогозов здоровый вернулся к работе.
Рогозов принял решение оперировать самого себя. Он применил местную анестезию — ввёл раствор новокаина. В качестве ассистентов он привлёк метеоролога и механика: один держал зеркало, другой — освещал операционное поле настольной лампой. Хирург работал в полусидячем положении, ориентируясь по отражению в зеркале, периодически делая перерывы из-за головокружения и слабости. Операция длилась около двух часов. Через две недели Рогозов здоровый вернулся к работе.
Сегодня анестезиолог работает не «на слух и по зрачкам», как раньше, а с целым мониторным пультом управления организмом. Аппараты контролируют дыхание, давление, уровень кислорода, концентрацию анестетика в крови, даже глубину сна — это можно измерить по электроэнцефалограмме. Медицинский сон стал безопаснее, но он не проходит бесследно для человека. Результат такого сна — смешанность сознания, нарушение работы центральной нервной системы. Химикаты наркоза оседают в почках и печени.
Какой бы магией облегчения не обладал искусственный сон — это прекрасный яд.
Какой бы магией облегчения не обладал искусственный сон — это прекрасный яд.