На «Карла» почти невозможно попасть. Разве что слёзно уговаривать знакомых о проходках, либо успевать в первые 9 минут 38 секунд на практически не работающем сайте Театрального музея. Были опасения создать типичную сухую рецензию о приемах режиссера Дмитрия Крестьянкина, энергии Бутусова и Крымова, о которых говорил «ПТЖ». Да и зачем?
ИИ-шный Мейерхольд, кому и посвящен публичный подкаст «Еще один, Карл», вещает в комнате последнего директора Императорских театров В.А. Теляковского, бессовестно травившего Мейерхольда, о том, чтобы от создателей спектакля отстали... все. И желательно не мешали творческой свободе Скарамуша (сам Дмитрий Крестьянкин), Пьеро (Игорь Астапенко) и Арлекина (Вячеслав Пискунов) в гриме «Служанок» Романа Виктюка.
Перед входом нас встречает сам Дмитрий Крестьянкин и рассказывает о спектакле, его сути, кратко и иронически. Человек 100 по петербургской традиции вмещаются в крохотную комнатушку. Сценография художника Шуры Мошуры оформлена так, что сцена маленького театрика перекрыта нарочно белым экраном. Зрители рассаживаются вокруг самодельной студии звукозаписи с микрофонами, столом со скатертью-юбками (снова замешан Виктюк), звоночком для «кринжовых» высказываний ведущих и бюстом Веры Федоровны Комиссаржевской.
Герои за стульями «Карл», «Казимир» и «Теодор» (имена Всеволода Мейерхольда до перехода в православие) делают так называемый «разгон» — изложение рандомной темы с прибаутками и мемами о генеральских котлах, игрой Скарамуша в «Геншин-импакт», «нюдсами» и огромными глазами почтенных пожилых дам при упоминании Лабубу.
«Люби кринж в себе, а не себя в кринже»,
— перефразируют Станиславского артисты, и мы постепенно погружаемся в Мейерхольда, а точнее в восприятие фигуры спустя сотню лет. После доброго десятка за год постановок о нем, умалчивают о «Чужом театре» Валерия Фокина, но понимающее дыхание зрителей выдаёт секрет Полишинеля, сказки о самом себе. И это без лишних рассуждений тенденция времени: уход к исторической личности во время перелома ей хребта. О теме спектакля Дима Крестьянкин ответил проще: «Потому что он новатор и потому что мне нравится». Ну и, конечно, ИИ-шный ВЭ комментирует происходящее и просит уже отстать, заниматься современностью, а критикам особо не ругать, художника может обидеть каждый. И живость Мейерхольда проявляется во мгновенном, площадном ответе артистов на статью из «ПТЖ» о прошлом спектакле в том же Театральном музее. Стебут на чем свет стоит этюдами в лучших традициях Юрия Бутусова. Взлетает снежок из бумаги как в «Город. Женитьба. Гоголь», приглашают к микрофону, кажется, подставного зрителя вместо Арлекина, и тянут, тянут невидимыми канатами, издевательски пытаясь поймать хотя бы краешек, дотянуться современными театром до никем не виданной биомеханики.
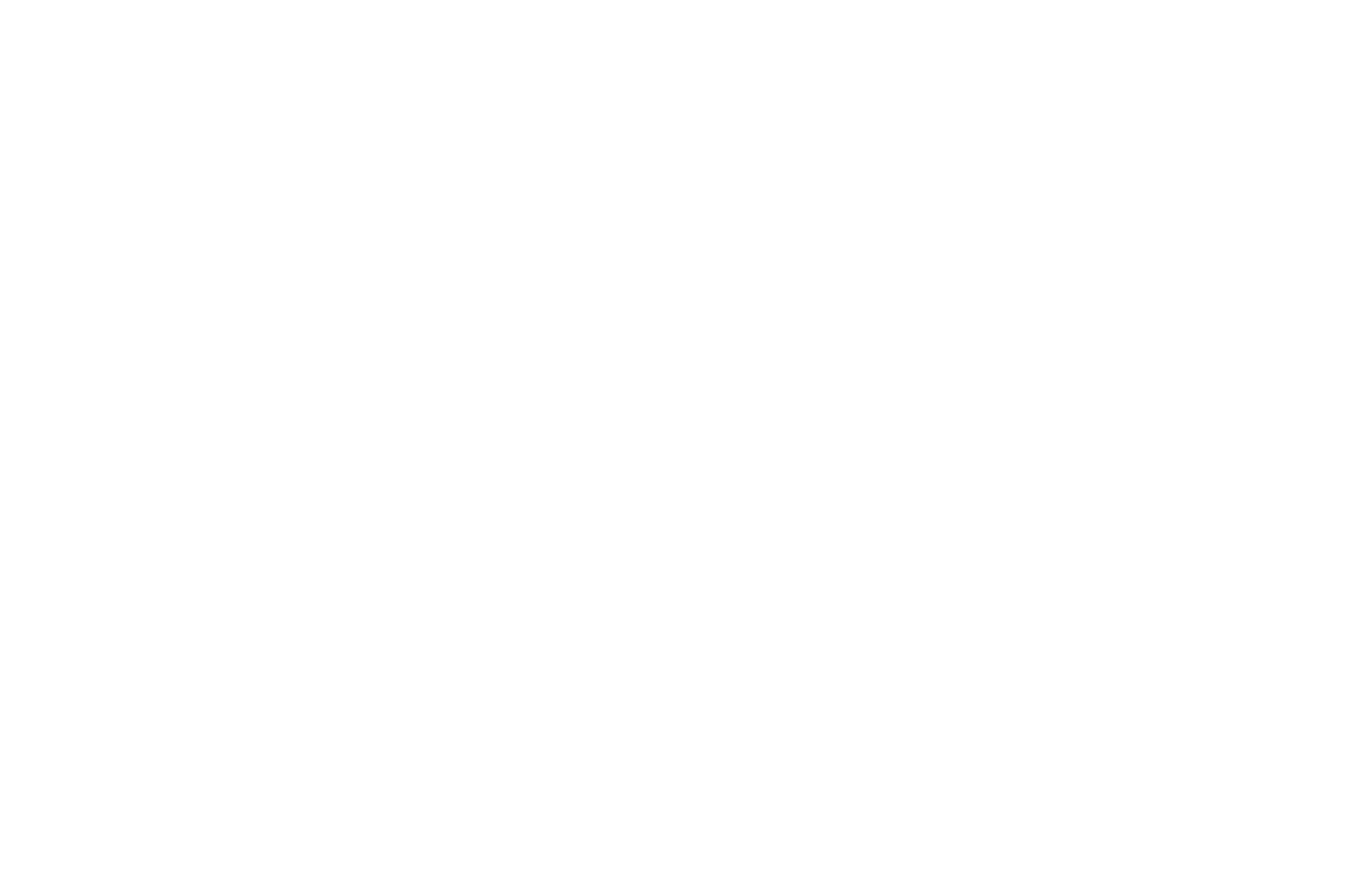
Виктюк открывает винегрет из состоявшихся и несостоявшихся премьер. Отрывок из «Матросской тишины» для «Современника» с приколотым на голую грудь Вячеслава Пискунова медалью, диалогом о вранье и ценности семьи в самое тяжелое время. Цитируется «Кабаре Брехт», монолог с важной пометкой «антифашистский». Ну и как не упомянуть монолог из «Пьяных» Андрея Могучего. Большинство монологов в спектаклях читает Пьеро (Игорь Астапенко). Крик «не ссать» и не поливать себя европейской всем известной субстанцией проникает в самую душу. Вставные эпизоды составляют огромный каркас «театр», подобно декорации к «Великодушному рогоносцу» Всеволода Мейерхольда в соседнем зале. Кстати, на неё можно залезть.
Ещё один (Карл) смысловой центр — повторяющиеся сцены с Сергеем Юрским, Петром Фоменко о человеке в квадратном пиджаке, хозяине Ленинграда Григории Васильевиче Романове. Один и тот же текст: «Вас больше не существует». Но ладно бы это ограничивалось прошлыми воспоминаниями. Дима Крестьянкин упоминает историю о вечном образе чиновника. «Шлангом нужно быть до конца», — озвучивает свои мысли режиссёр, и вот тут довольно точно отражена особенность времени, естественная, нормальная и безопасная: аполитичность. Она «кураторов» и раздражает. И они никогда не перезванивают. И не дают денег.
От мук, от сложностей Дмитрий Крестьянкин для нас всех сделал большое высказывание и поставил его в маленькую коробочку кабинета. Что за ней? Как закончился Мейерхольд и «Еще один, Карл» (очень жаль, что вы не слышите эту задорную, смешную интонацию вместо джингла-перебивки)? Отсылкой на воспоминания Фаины Раневской о прототипах «Буратино». Карабас-Барабас-Мейерхольд (Дмитрий Крестьянкин) хочет свой театр, но находит стенку, а точнее застенок. «Да здравствует новый театр!» — кричит Арлекин и взрывает хлопушку перед кирпичной стеной без холста папы Карло. И приём дырявит душу настоящим пистолетом. Только пели «А знаешь, всё еще будет». Дальше — тишина. Эстетика сна театрального человека исчерпана. Остаётся «Группа крови» Цоя вместо «Перемен». Мы хлопаем что есть сил и поём хором.