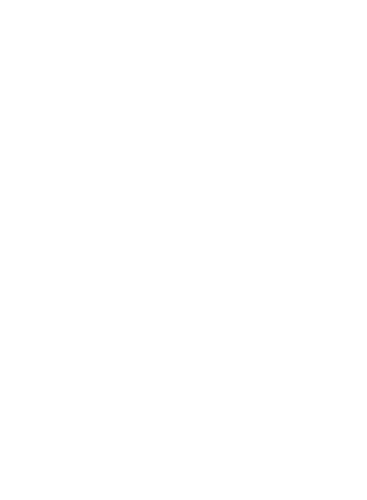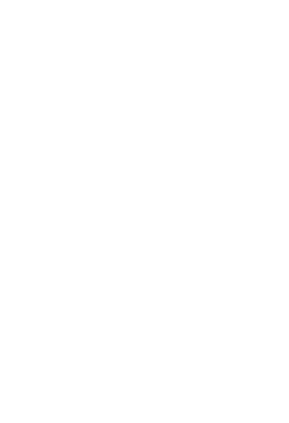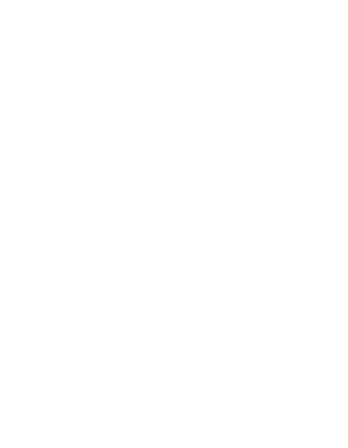как осваивали Северный морской путь
От Европы до Азии. От Мурманска до Чукотки. От Карских ворот до бухты Провидения. Он проходит через 6 морей и более 70 портов. Длинный и жизненно важный маршрут –
Северный морской путь.
Почти 100 лет он обеспечивает транспортировку грузов и полезных ископаемых из одной части России в другую, несмотря на сложные климатические условия и технические трудности. Сегодня ставятся ещё более масштабные цели: расширение пути до 14 тысяч километров, включение новых портов и сухопутных дорог от Санкт-Петербурга до Владивостока.
Но всё, что есть сейчас, было бы невозможно без подвига бесстрашных первопроходцев.
«Панорамы одна другой сказочнее открываются перед путешественником, попавшим в эти места. На первом плане он видит кружево прибоя мятущихся океанских волн. Тут все кипит и клокочет. Берег — черные шиферные или диабазовые скалы, — вы вспоминаете картину Беклина — «Остров Мертвых» — как будто оттуда сошли эти скалы. Здесь опасные места для морехода. Он старается обогнуть их подальше. Но не прибрежные скалы останавливают взгляд, не страсть и борьба волн с камнем, а покой, какой-то неземной покой там, дальше скал, где строгой линией гор оволнилось небо, где бело-матовая, девственная чистота горной цепи прорезана только фиолетовыми скосами и застывшими реками голубых ледников. Туда тянется глаз и следит, как меняется панорама, как в нежном сумраке вечера-дня выделяется в подчеркнутой морем белизне вся вставшая из него земля, как за новым поворотом, из-за мыса выплывает новая страна и чудится, — вы у входа в новое царство и скоро, скоро будете у алтаря красоты, досказанной до конца».
— Н.В. Пинегин
Звучит безумно. Но для Георгия Седова желание «водрузить русский флаг на Северном полюсе» стало делом жизни.
27 августа 1912 года судно «Святой великомученик Фока» из Архангельска отправилось к намеченной цели. На нём – начальник экспедиции Седов и команда из 21 человека.
К сентябрю 1913 года «Святой Фока» добрался до земли Франца-Иосифа – плановой точки маршрута.
«...«Полярная стрела» мчалась между унылыми болотистыми перелесками и уносила меня все дальше от нежных белых ночей Ленинграда к еще более светлым северным. Тревога не покидала меня. Мне предстояло давать консультации, иначе говоря, отвечать на все возникающие у руководителей морскими операциями вопросы, связанные с ледовым режимом. У меня должны были сосредоточиваться все самые последние сведения о состоянии льдов на трассе по наблюдениям с самолетов, плавающих судов, судов ледового патруля, полярных станций. По требованиям командования надлежало разрабатывать краткосрочные ледовые прогнозы.
Всё это было ясно. Но что практически за этим скрывалось? Неизвестность волновала и беспокоила меня, вместе с тем она таила какую-то своеобразную заманчивость, делала все предстоящее еще более интересным».
– М. М. Сомов
В условиях предстоящей войны освоение маршрута стало критически важно: по Северному морскому пути осуществлялся проход боевых кораблей, транспортировка грузов, боеприпасов, топлива. Поэтому совсем неслучайно было решено пройти двойное сквозное плавание – с запада на восток и обратно. Именно туда – к началу плавания – на «Полярной стреле» мчался взволнованный Михаил Сомов. Но неизвестность беспокоила не только его. Для всех это было впервые.
Правда, прирождённой безумной страсти к дальним плаваниям, как Седов, он не имел. Его тянуло к Азовскому морю. Но всё изменилось внезапно, когда его попросили «в самом срочном порядке заняться исследованиями ледового режима наших арктических морей» с тем, чтобы составить долгосрочный ледовый прогноз по всей трассе Северного морского пути. С этого момента море открылось Сомову с другой стороны – холодной, суровой и опасной. Но это его не остановило.
- Фотонегатив. Ледокол "Иосиф Сталин" в гавани о-ва Диксон. 1937
- Л. Д. Долгушин Фотография. Первая комплексная антарктическая экспедиция АН СССР (Митинг, открытие п. Мирный; с коробкой стоит Греку Х.И. рядом Голубев В.Д., справа Сомов М.М.).
- Фотография. Начальник 1-ой КАЭ АНССР М. М. Сомов за рабочим столом в жилом доме обс. Мирный. 1956
Впереди у Сомова были другие открытия, дрейф станции «Северный полюс-2» и первая советская экспедиция в Антарктиду!
Но всё начиналось здесь – в ледяных просторах Арктики.
«За десять лет мне довелось увидеть Арктику, побывать во всех морях, узнать много нового, необычного, повидать места значительно более красивые, более величественные, чем Диксон. И все-таки этот остров для меня — олицетворение Арктики и всего того, из чего складывается ее особое очарование, ибо на Диксоне
я её впервые увидел, вначале разочаровался в ней,
а затем, привыкнув, полюбил на всю жизнь. С Диксоном у меня связаны и нежная, чуть блеклая голубая акварель ни с чем не сравнимых арктических закатов, и феерическая красота прозрачных волн цветного северного сияния, и белый воющий мрак пурги».
– М. М. Сомов
«С каждым метром «Мир-1» приближался к цели. К концу спуска скорость погружения аппарата существенно возросла. Давление на этой глубине уже превысило 400 атмосфер. Трое людей, сидящие в маленькой лодке, достигли пределов того таинственного мира, который называется дном Мирового океана. О котором грезили Жюль Верн и Конан Дойль. И в котором, пока еще на правах гостей, удалось побывать всего лишь нескольким отважным людям.
И вот наконец Володя Груздев увидел, как лучи мощных прожекторов отразились от поверхности.
– Вижу дно, – воскликнул он. – Учтите, сейчас «вспылим», – предупредил Сагалевич. Через мгновение «Мир-1» опустился на мягкое океанское ложе, подняв при этом густые клубы донного ила.
В 12 часов 08 минут мы наверху наконец получили сообщение: «Мир-1» приземлился на дне Северного Ледовитого океана на глубине 4261 метров в географической точке Северного Полюса!..
Это известие было встречено с ликованием. Люди обнимали друг друга, аплодировали кричали «Ура!». Эхо победы разнеслось над Северным полюсом. То, ради чего мы шли в эту экспедицию, свершилось. Все немного расслабились, стали шутить».
— Глубина 4261 метр. М., 2007
2 августа 2007 года 6 человек погрузились на дно Северного Ледовитого океана на двух глубоководных аппаратах «Мир». Среди них – Артур Чиллингаров – доктор географических наук, полярник, учёный-океанолог. Он собирался стать механиком, но судьба распорядилась иначе – и она точно что-то знала.
Если у Сомова всё началось в Диксоне, то у Чиллингарова – в посёлке Тикси – самом северном порту России, где он работал инженером-гидрологом после окончания училища. А потом – долгие годы исследований, открытий, поражений и успехов.
В 1969-1971 гг. он возглавлял высокоширотную научную экспедицию «Север-21», которая доказала возможность круглогодичного использования Северного морского пути. А в 1985 – руководил спасательной экспедицией судна «Михаил Сомов», которое было зажато льдами у побережья Антарктиды.
Перечислять их можно бесконечно.
Но одно пропустить точно нельзя – Арктика-2007.
И даже пробовал нырнуть самостоятельно, еще в 70-е –
в полынью на Северном полюсе в громоздком водолазном костюме с аквалангом. Глубина — всего около тридцати метров, условия были просчитаны, план казался безупречным. Но на практике всё оказалось иначе: нырнул успешно, а вот выбраться обратно из-подо льда стало серьёзной проблемой. Ему пришлось сбросить акваланг и буквально выкарабкиваться на поверхность в одном костюме. Позднее он вспоминал, что было ощущение, будто океан удерживает его и не хочет отпускать.
В итоге так и случилось – полынью некоторое время не могли найти.
И к тому же пропала связь. В какой-то момент «Мир-1» оказался прямо под судном, рядом с винтами – чем это могло закончиться, страшно представить. Но всё обошлось благополучно: экипаж всплыл, и первым из люка показался Чиллингаров.
«Мы еле-еле выбрались, – признавался потом он. – Подъем был просто выматывающим, именно выматывающим. Я уж было начал думать, что это моя последняя авантюра. Океан не отпускает тех, кто осмеливается проникать в его глубины».
Это море, о котором не мечтают романтики. И которому не посвящают стихи. Суровое, холодное и опасное – оно принимает самых стойких. Полярники, каждый день рискующие жизнью, для которых мороз и темнота – не аномалия, а привычное состояние, тем не менее с теплом и любовью говорят о своей работе и об Арктике. Они видят красоту там, где другие могли бы её не заметить, упустить. В северном сиянии, снежной тундре и ледяных скалах. Но главное – они готовы на всё, чтобы стать первыми там, где раньше не ступала нога человека.